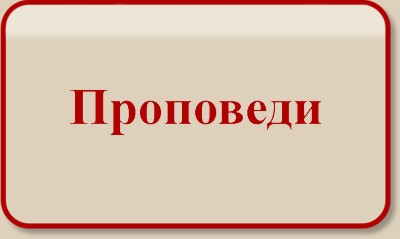Вопрос
2721:
12 Т.
В
книге «Для
слова Божия нет уз»
на стр.199 говорится, что Вам в обвинение ставился некий
материал «Мария
Евлампиевна». Что это такое и
где он сейчас находится?
Ответ:
Я
записывал на магнитофон свидетельства живых людей,
которые
многое претерпели от безбожного
режима коммунистов. Одна из катушек (8час.20 мин. звучания) начиналась
рассказом мамы Вали Коневой, нашей прихожанки, Марии Евлампиевны, как
их
раскулачивали. Но там было множество и других свидетельств. После
освобождения
я сумел раздобыть часть этих катушек и некоторые даже перенёс на
бумагу. Могу
познакомить с некоторыми из них. Запись дословная, и даже сохранён
выговор.
Прошлое
познаётся от живших в прошлом, и
всякая попытка скрыть наше прошлое обедняет нас от опыта живших до нас.
И это
обходится слишком дорогой ценой – повторением ошибок, от
которых опыт ушедших
мог бы нас сохранить. Делающий добро идёт к cвeтy и хочет, чтобы
прошлое было
известно. Делающий же злое ненавидит свет, иcтину и хочет, чтобы его
злодейства
скрыла тьма, чтобы прошлые злодеяния иродов и каллигул были скрыты, а
память
народа была отшиблена. Так легче продолжать творить своё чёрное дело.
(Новикова-Конёва
Мария Евлампиевна)
Я:
Нас интересует, как вы жили, как
воспринимали эти колхозы, а то гoвopят, что никого тогда не мучили и не
было
того, чтобы людей туда насильно загоняли. Я же говорю, что у нас есть
живые
свидетели, которые на смертном одре лeжaт. «A это ещё надо
проверитъ, так ли
это было, а то они пpидyмывaют» - отвечают на это. Говорю им:
«Верующие ничего
не придумывают, они говорят правду. Вот я и хотел от Вас услышать Вашу
иcтopию,
с чего у вас началось, как раньше жили.
Мария
Евл.:
«Жили мы, как и все люди живут. Было у нас два
коня, две коровы, 3 овечки было, свинья была. Машина была, жнейка с
переводом,
косили сено и хлеб жали. Двое мы с мужиком работали с утра до ночи. И
свекровь со
свекром – им было по 65 лет.
Трое детей было у нас, маленькие. Я вышла молоденькая замуж, 18 лет
было мне. И
когда мне было 25 лет, то было уже трое
детей. Ну, поедем утром рано, вечером поздно приедем; у свекровки глаза
были
больные, ей сделали операцию, у неё
какие-то плёнки оказались и она плохо видела; ну ей и свекор помогал
ходить.
Я
приеду с поля, надо две коровы подоить; и
пока управишься, то
лягу когда
в l2
часов нoчи, а то и в час ночи. А утром только чуть начёт зариться,
встаю опять,
надо печку затопить, да им приготовить исть,
да себе, да
скотину прибрать. А потом и на покос. Да так
нисколько-то
в жизни не отдохнула
(всхлипывает, плачет).
Я тут буду
гoвopить, всё буду плакать (лежит сейчас в кровати у дочери
Валентины-дочери,
уже смертельно больная – так и не встала больше с постели,
так что за каждое
слово её можно ручаться совершенно. Все это ей известно не со слов, а
пережито
ею). Нисколько -то мне покоя не было… (Плачет).
А
потом стали когда в колхоз загонять,
говорят, что заходить надо в колхоз – это было в тридцатом
году, – в колхоз
заходите. Ну, а у меня свекровка говорит: грех записываться в колхоз,
не
ходите! Нельзя! Ну а мы-то тогда были ишо молодые, и мужик такой же был
- мы в
одних гoдax, с одного года с ним, с пятого года обоя.
Его фамилия
Конёв. А у меня Новикова.
Мы с нём не
легистрированы. Видишь, я была за
другим, с тем я прожила
7 месяцев,
да
разошлась с венчанным, а этот не венчанный был. Тот не дал мне развода,
мы так
и жили не легистрированные с нём. А дети всё равно считались все
Конёвы. А
только я Новикова писалась. В колхоз мы не пошли,
на нас
наклали
налог; а хлеба сеяли пять гектар, пшеницу, овёс, и рожь – так
вот всё. Но сами всё убирали, потому что было не из чего платить
наёмникам,
денег не было. Потом на нас наклали налог, хлеб мы вывезли весь,
сколько
накладывали. А ишо наклали какой-то налог
большой. Мы
не пошли в колхоз и
нас
раскулачили, наклали налог большой. Они продали коня; свёкор с
мужиком и жнейку продали, которая косила сено и хлеб, и заплатили. Потом
самообложение
наклали, опять столько же.
Другого коня продали. И корову продали – одна корова
осталась. Ну, вот
уплатили, и мужика отправили осенью, это уже было в 30-ом году, мужа
отправили
на лесозаготовку осенью, а к нам ето, без него пришли описывать,
наклали ишо
сто двадцать рублей
на нас, а
заплатить-то и нечем, Ни чё нету, и хлеб-то вывезли весь,
нечего
продать-то было и корова одна уже
осталась. Нечего было, ну да, может быть, мы бы и в займы заняли, и как
бы и
взаймы заняли, ведь
это сто
двадцать
рублей.
Ну они,
видишь как, они наклали налог, и
только два дня прошло, они уже пришли описывать, говорят, не плотите.
Пришли
описывать, чугунки и чё попало, посуду – да нечего больше
описывать-то,
машин-то у нас никаких не было. Машина у нас была швейная, так она была
ручная, не
ножная, ну и ей описали. И
корову хотели взять, овечек забрали, всё отняли. Корову хотели описать,
а я
сижу и Толю
сына взяла, он годовой
был как
раз, я взяла его на руки, а Шуре было
4 года. А
Вале было
уже шесть лет. Они
были
возле меня,
стоят. Я сижу и заплакала, и говорю:
«Товарищ
Жежлев, оставьте мне корову,
не для
меня,.(плачет: не могу терпеть-то)… а
для малых... для детей... Ты видишь, куда я пойду с ими за молоком-то,
да и на
чё купить-то мне». Кто раскулачивал нас, их трое было
– один-то ишо сват наш
был, пришёл к нам описывать-то. Трое, пришли. Я говорю: у меня эта
корова от
отца приведёна, когда я замуж выходила, то они приданное мне дали,
это моя
корова, так вы уж мне её оставьте,
пожалуйста, не
для меня, а для
детей вот. Они поразговаривали между
собой и говорят: «Оставим корову для детей,
ладно, не
будем описывать».
Оставили. И
говорят: «Если ты свекровке
и свёкру дашь молока и мы узнаем, то
отберём
корову. Им не давай
и
мужику не давай. Сама ешь и детей корми». Я говорю:
«Ну ладно,
не дам я
им». А свёкор да и свекровка тут же
сидят со мной на лавочке. Они посмотрели, ничего не сказали. Ну разве я
им не
дам молока, какое будет сердце-то у меня, когда будем жить-то вместе.
Ну вот
описали всё и дом, и всё, за всё это - сто двадцать рублей. Это старыми
деньгами, тогда ишо были старые деньги. Они теперь говорят:
«Ну,
освободите завтра дом». А я говорю:
«Паша приедет с лесозаготовки, тогда мы перевезёмся. Да как я
буду перевозиться
с детями? Не могу сейчас». Они говорят: «Ничего
подобного, нам надо
под школу дом, уходите завтра же».
Ну чё,
ладно, ушли они. Ушли, мы тогда
назавтра же, я тогда к золовке пошла, у неё мужик-то дома был,
я и говорю:
«Иван, пожалуйста,
помоги нам перевезтись». Ну, и
перевезлись. А у них кухонка и комната была. Да у ней четверо детей, да
у меня
трое детей. Ну вот так и жили. Паша
приехал с
лесозаготовки, только неделю одну прожил и его взяли в
Прокопьевск на шахту на два года. Лишили голоса
тогда, и
взяли в шахту. Не знаю как там взяли его, сказали, что на два
года в шахту.
Ну вот, это
было в январе уже. Мы с января
дожили до мая и
к нам пришли соседи:
«Завтра вас будут ссылать».
Это было 13
мая.
А я говорю:
«Ой, как же это?
Хоть бы Паша
дома был. Куда же ссылать? Как ссылать-то?». И заплакала
сама. «Я сейчас куда-нибудь убегу, – говорю, - а
детей, может, не
сошлют».
А свёкор
говорит: «Нет,
ты будь с
ними, тебя не сошлют, старуха стара, да плохо видит, вас не сошлют, а я
уйду в
деревню куда-нибудь».
И ушёл
куда-то в
деревню.
А они
назавтра и приехали, а он на утро
ушёл, 14 мая, а нас
в обед как
раз
пришли описывать ишо что-то. Чашки какие-то нашли. А я говорю:
« Чашку-то мне,
поди, дадите,
куда это меня сошлёте, в
чём я там буду исть-то?»
«Ну,
тарелки
две-три тебе там хватит». Какая посуда была, забрали всё,
описали. Да и вещи какие
были получше – тоже взяли.
К
нам коммуна приезжала раньше, за два
года вперёд.
Семь домохозяевов там. Они в поле
жили, избушки там понастроили, а к нам часто ходили в баню все. Мужик с
ними
придёт и говорит: «Наверно, опять
коммунары
приедут в баню, давай топи баню». Я пораньше приеду, баню
истопим в субботу. Они человек пять придут, мужики, вымоются,
накормим
их, они пойдут. И как раз этот же
ихний начальник самый-то главный пришёл, председатель или кто он,
пришёл
описывать. А я и говорю: «Антон Васильевич, всё-таки вам поди
стыдно, последнее
всё отбираете, и ссылаете. Помнишь, как
ты к нам
каждую субботу приходил, да ещё с собой приведёшь товарищев,
а я
за вами ухаживала.. (плачет). Да ещё
у нас какое мясо было, дак мужик отсекёт вам лопатку или больше:
«Нате, Антон Васильевич,
вам, там дома поедите», -
а вы теперь всё у нас забираете. Делились с вами последней крошкой, а
ты пришёл
ишо описывать, и говоришь: «А там поди какие корчаги, какие
чугунки есть?»
Я говорю:
« Да вон есть, возьмите, заберите,
я с собой их не повезу». А потом, пока я с ним разговаривала,
мне в ящик
чего попало
наклали,
а получше чё, повыбрали. А только
золовка побежала, у ней пшено было, так она с пуд в мешочек нагребла и
принесла, и
на дно в ящик бросила. А шубенки,
дублёвые, да пимы,
пимишки
старые,
ботало коровье положили, да два колокольчика (плачет).. в ящик. Да
иконы,
большой Спаситель был Пашин. А моя Богородица была такая
стеклянная,
и это поставили туда. Я спросила
у Федосьи, у золовки своей: «Всё склали в яшшик?»
«Всё, вот тут для детишек, да
твои вверху лежат платьишки». А больше ничё не сказала.
Только сказала: «Мария,
я положила там
пшена (шопотом), три
пуда». Я говорю:»Ну ладно, спасибо».
А теперь
смотрю соседи тащут, соседки все
были хорошие, как
родные были; ташшут,
кто сдобные калачики, кто сало ташшит, так прямо стопами, свиное сало
солёное,
кто сухари
какие есть,
да наташшили два
мешка целых. Я говорю: «Федосья, ты как
складывала?» Она говорит: «Я хорошее
сдобное в
этот вот мешок, а такие вот
сухари и чё постное, вот в этот мешок. Ты заметь», - говорит.
Я
говорю:
«Ну ладно».
Обвязали
верёвочкой и всё. Подъезжает возчик на телеге с бричкой, поставили ящик
и всё
моё, а меня вперёд посадили с ребятишками, а свекровку-то некуда. Тут
возчик
сел, некуда её посадить. Её взяли и сверху на ящики и посадили. А
конь-то как дернул,
она упала с ящика-то; она плохо видит и не поддержалась,
и упала
прямо на землю. Они взяли её, а
золовка-то закричала, заплакала и говорит это о своей матери:
«Что делаете, она
уж видишь какая, она падает, куда же вы её повезли на ссылку-то.
«Ничё, -
говорят, - мы сейчас привяжем её верёвкой». Взяли и к бричке
верёвкой привязали
и говорят: «Не упадёт теперь». Повезли в сельсовет.
Не в нашей деревне был
сельсовет, а три километра от
нас
деревня. Свезли туда много к сельсовету, в клуб завезли нас. Мы тут
ночевали.
Назавтра опять повезли нас в Крапивино, в район. Не знаю, сколько уж
семей,
даже из
аила были, из деревни; 5 семей
раскулаченных повезли, а у нас из деревни только меня одну, а вперёд
ссылали.
Вперёд в Сухие лога сослали, там Ивана Трофимовича, Колтышева,
Мельникова
сослали на Чулым – вперёд ссылали. А тут меня только одну. Ну
до району
довезли, там ссадили всех
нас, свекровку со мной,
а там жил
моего мужика брат, он конным
ветеринаром был, а жена его была инспектор, по школам ездила. А ишо
привезли
мою племянницу Катю, ей было семнадцать лет только, она только что
замуж, тоже
из аила же из етого, из деревни, со всеми, со свекром и со свекровкой
повезли
её, а мужик-то её вперёд её поехал в Ленинское, и там устроился где-то
на
работу и говорит: «Катя, я за тобой приеду». Он и
не знал, что
ссылать будут её. И её тоже повезли, а
мой-то брат, это моего брата дочь была, мой брат-то услышал, что её
повезли,
Катю, от нас 8 километров – он жил в другой деревне, и
прибежал туда и говорит:
«Что это Катьку-то у меня повезли, я за что
партизанил». Били его белые
плетями, пятьдесят плетей ему дай, что он красных поддерживал. Когда
были
красные, он помогал им. Он не бегал в партизанах, только поддерживал
их. И он
кричит: «Так
за ето мою дочь-то
повезли?» И побежал к старшему к коменданту, и освободили,
ему какую-то бумагу
написали. Он пришёл: «Катька, пойдём. Где тут чё у тебя есть,
ящик или чё,
давай, утащим»
и пошли. А
я говорю:
«Братка, - я его браткой звала,- братка, говорю, как я-то,
посмотри-ка, говорю,
и дети маленькие и
свекровка-то вон как
плачет, не видит ничё, как я с ними
поеду-то,
где-либо на поезде, или на
пароходе, так и свалимся все». Он говорит: «Погоди,
я сейчас к Григорию сбегаю,
пушшай он старуху возьмёт к себе». Говорит:
«Григорий, бери мать свою, а то
ежели не возьмёшь, я сейчас на тебя докажу, что ты его брат».
А у него
была связь порвана с нами, - как
раскулачили нас, то он с нами связь порвал, он тут же жил, а уехал в
Крапивина,
и там работал ветеринаром, а она инспектором, жена его. И сбегал зa
ним,
пришёл, взял её за руку: «Пойдем, мама» - и увел
её. А я только с ребятишками и
осталась. Повезли назавтра… В Кемерово везли в область.
«Собирайте всё своё». А
когда мы приехали, то ящик-то со мной был, а продукты -то в другое
место склали,
какая-то крышка была, и под
крышку эту склали; там охранник охранял, и
мои два мешка там были; у всех продукты там были. Теперь я говорю:
«Давай,
где-то тут мешки». Один мешок этот мне только дали, который с
постными
сухарями, а того нет. Я искала, искала, да где же ишшо-то мешок? Ничего
нету.
Охранник говорит: «Ничего у тебя больше не было».
Я говорю:
«Как же не было, у меня там
мешок такой-то,
мешок с такой-то
тряпочкой».
Нету и всё.
А кому
жаловаться-то? Кричат: «Собирайтесь быстро,
чего вы там
ишшо». Ну я пошла с одним мешком и заплакала. Сели на телегу
и поехали в Кемерово. Много нас повезли. Нашего Крапивинского района не
знаю
сколько - то ли 60 семей, то ли 70 семей - много. Привезли туда к
поезду, на
вокзал, а там уж народу много, все сидят с калаушами (с сумками)
своими, и с
детьми, и много: дети, женщины, старики, старухи. А молодых мало
мужиков совсем
было. Ну
на поезд давай нас грузить, на
такой, как он называется, телятник. А
там одна
женщина и четверо маленьких детей, она и кричит: «Давайте
мужа
мне, тогда поеду». Я не знаю, где у неё он был:
«Без его я не поеду». А я тоже
тогда говорю: «Дайте
и мне мужа,
привезите его сюда, я
тоже не
поеду».
Они говорят: «Ничего подобного, муж туда к вам
приедет» – ей говорят и мне. Она
взяла как-то тайно смылась и убежала. Убежала, а дети-то четверо тут,
лег 12
что ли большой девочке, а эти меньше. И стали когда грузить-то, а её
нет. Где
мать? Её нет. Их тоже вместе с нами посадили, помню, то один
даст им
кусочек, то другой кусочек – толи тут продукты у неё были, то
ли остались, не
знаю. Ну а им сказали: «Мать к вам всё равно
приедет». А вот не знаю, толи она
приехала к ним, то ли нет.
Погрузили
всех нас и повезли до Томска, там
на приставь высадили. Много нас на пристани было. Не только сколько нас
привезли, но много народу. Мы тут ночевали прямо на берегу, на
пристани.
Назавтра подъехали два парохода больших, и четыре баржи, вот как четыре
пальца
вместе, вот так они рядом все, а два парохода, гусевой один, другой, за
его
другой прицепленный, а баржи за ним прицеплены.
И посадили
нас тридцать тысяч – вот сколько тут было народу, на эти
баржи. И внизу и вверху и везде
народу,
негде пошевелиться, едак вот с калаушами (сумками) сидят.
Ну как
раз 14 мая
повезли, реки-то
разлились, по Томе сначала вниз, километров 30 проехали, Обь уже вышла,
а потом
Чая река, нет, Чулым первый вышел, а потом Чая река. Чулым по правую
сторону
вышел, а Чая река по левую сторону вышла, и Обь тоже по левую сторону
вышла,
а Чулым
в Томь впал, и вот так поплыли.
И знаешь, идут эти реки, как ровная дорожка, они вроде не смешиваются.
Томь
- она, видишь, какая
зелёная,
она так и
идёт, а Обь она какая-то мутная, так она как дорожка между ними, как
межа, а
Чая, как чай река, рыжая какая-то, а Чулым, как
молоко с
водой, разведенная,
такой
какой-то белый. И вот долго всё
смотрела – почему не смешиваются, а потом уже дальше они
смешались. А волны
какие бились, прямо вот как о баржу ударит, ударит, с метр или выше,
сильно
били волны. Ну вот так везли-везли, нигде, посмотрим, нигде не видать
ничего,
ни кустиков, ни гор, туда вниз в Нарым везли. И вот думаем:
«Чё же это все реки
разлились, как равно
море. Куда же
нас повезли?» И тот говорит, другой: «Куда
же нас повезли, куда?» А куда везут, ничё не говорят.
Вот везли,
везли, не знаю – 400 км. или
сколько провезли. Деревня
Боромаково
и… по
праву сторону ссадили всех нас,
остановились эти баржи и всех ссадили. Каждый своё таскал. Я перво
ребятишек
уташшила, и посадили; а народу много, того и гляди, что если подальше
от берега
посадишь, затопчут. И тут некуда, все таскают своё, кошели свои. А я уж
свои
кошели бросила, ящик там был, постель, да подушки. Ну и ребятишек перво
стащила, от берега с метр я их посадила и Вале говорю (при записи этой
беседы
13,03.1980 года присутствовала и эта Валентина Павловна Конева - 1924
года
рожд. Проживает в настоящее время по адресу
656045
г.Барнаул, Змеиногорский тракт 110 кв. 101. Тел.23-00-26).
А Вале
седьмой год пошёл с марта, а весной-то
и повезли нас. Ей старшей, а этому-то уже полтора года было сыну, я и
говорю:
«Валя, за пальто держи его, чтобы он туда не сполз. Ежели он
туда упадёт в
речку, я тeбя тоже сброшу в речку, не смей его отпустить».
Она его держит, а он
рвётся туда, к берегу смотреть; она его держит за рубашку, а я в это
время-то
стаскивала своё. Все стаскали, а там охрана дальше, в кусты-то не
пускают
никуда, думают, убежим. А куды мы убежим от детей?
Ну
стаскали, тогда я и их туда утащила, там
палаточку натянули, три недели
мы
тут жили и все это три надели привозили три раза по 30.000
человек,
говорили, что по тридцать тысяч. И
вот столько народа, что не поверишь, столько, что негде прямо сходить
на двор.
Все огороды перегадили во всей деревне. Народу шибко много, и зады все
перегадили,
всё перегадили, столько много народу. Вот тут мужик стоит и некуда тут
деваться
тут, садишься и oн только
хохочет. Ну
чё
сделаешь, дальше-то
нас не пускают.
Ну вот
теперь три недели прошло. Нас стали
заводить на пароходы. Всех, кого в Чаинский район, кого в Бокчарский.
Ну нас в
Бокчарский район повезли, а тут
были ещё
какие районы, ну уж вишь, сколько лет прошло, да и теперь болею, не
могу (через
полгода Мария Евлампьевна преставилась от сей многотрудной жизни в
иную,
вечную, в вере православной, быв
примерной
христианкой). Забыла районы, ну в каждый
район
назначены были, куда нас повезли. Сначала в Почаиры, потом в
Бокчары по реке, довезли до Бокчара – деревня Бокчар и река
Бокчар, и тут нас
опять ссадили с этого парохода. Мы тут ночевали ночь, опять пароход
пришёл с
баржей, и в эту баржу нас опять посадили и вещи наши тут склали и
повезли
дальше, в лес привезли. От Бокчары двадцать километров. Ну Бокчар, это
ежели
вот так по левую сторону, там часто есть деревни, по три километра, по
два, нас
туда вправо повезли в лес всех,
километров двадцать
провезли, тогда:
«Слазьте» - говорят. Ссадили. Остановились и слезли
мы. А на берег-то, ну как
сказать, метров десять, наверно, чистого места, а дальше лес. Говорят,
что в 21
году, это уж напосля мы узнали, жители говорили, что в 21-ом году горел
лес,
тайга горела сильно и переваляло лес, а лес-то хороший, кедрач, пихтач,
так
наваляло его друг на друга, на метр в вышину.
И клетки
такие, в охват не захватишь, накрестило и сквозь
лес этот в
клетки-то опять зелёный лес
пророс. И нам дали сразу лопаты, пилы, топоры. Мы на берег всё
стаскали, а
стаскивали уж поздно было, под вечер и говорим: «Как бы вода
не прибыла, да не
унесла нас». Да всё в кучу склали, твоё ли, моё ли,
там не
известно,
лишь бы оттуда все вытаскать. Всё вытаскали, а потом сразу мужики,
девять
мужиков только было у нас с района
Крапивинского, столько
мужиков, а
остальные старики, старые старухи, да ребятишки-подростки были лет по
14, по
15, вот такие. Приехали и давай сразу пилить. До вечера, до ночи
пилили, пилили
и давай стаскивать; мы стаскивали, уж темно, в кучу лес весь,
натаскали; а
напили много, смотришь, да и старики пилят, распилили, стаскали, как
большой
дом наклали, лес-то и зажгли. Зажгли, а мы скорее; у кого половики
были,
намочили в речке, да свои вещи-то, калауши закрыли мокрыми пологами, и
ребятишек туда же склали маленьких-то, а то искры шибко летят.
Закрыли.
Ребята, которые по 14 лет, по 15, они
в речку купаться. Быстро горит; лес-то сухой, только трещит. Ну и когда
сгорело
всё, мы размели, дальше отмели к лесу; и тогда перетаскали маленько
опять вещи-то
ночью, ничё не видать, свои или моё, лишь бы стаскать, маленько оттуда,
чтобы,
говорим, вдруг прибудет, а берег-то пологий был, не крутой и не
высокий. И так
присунулись к этой куче все.
Я ребятишек к куче прижала и
говорю:
«Ладно, ложитесь» - и заснули.
Рассветало, мы
встали и всяк своё
разбирать стал, у кого что есть, где там чё,
ну и я так.
Огонь
расклали, чай
наварили, сухари достала,
и тут я опять
заплакала. Думаю: дали, соседи такие хорошие (плачет) были, славные, а
они
целый мешок у меня забрали. Охранники или кто там в Крапивине в районе.
Сейчас
бы ребятишек покормила, и вот видишь, какие. Ну ничё не сделашь. Я их
сухарями
покормила, и сама наелась. Мужики сказали: «Давайте ишо
пилить будем дальше». И
вот мы каждый день всё пилили, распиливали всё, а потом палатки стали
натягать.
У кого старик какой, старуха, они себе натягают, а мы двое, километров
за 15
жила женщина знакомая, Родионовна. У неё двое детей, да у меня трое.
Говорим:
«Давай мы
с тобой
вместе палатку
натянем». Столбы с ней вкопали, и половики натянули; у меня
было два половика
больших, метров по 40 наверное, половики такие были, и у неё тоже. Мы
натянули
половик на половик сверху, чтобы, когда
дождь
пошёл, нас бы сверху не промочило – но всё равно промакивало.
И
там мы с ней
распилили
эти
бревна, потом
сделали нары, она себе
сделала, а я себе, вот так рядом. А хлеба нам давали по ковшу на
человека.
Сказали: это вам ковшик даётся на день, а завтра
другой
будет.
Вспоминаю,
как
нас
привезли в ссылку. Привезут муку, а на мешках мука присохнет, мы эти
мешки друг у друга выхватывали: «Дай я погрызу».
Мужчины взрослые хватают, а
детям тут -нет. Дети вокруг бегают, но не давал никто им. Мешки-то
подмачивает
и мука плитками засохнет. Едим-то хлеб с травой, да с гнилушками, а
тут-то
чистая мука – он отскребает зубами, тут всё в муке. Я говорю:
«Дай мне этот
мешок, который не еденный ещё». А другой мужик выхватил.
Гнилые пни потом ели.
Когда
узнаем, где такой
пень, выгребем у него изнутри, да чтобы никто не знал,
толкли,
чтобы ещё раз на этот пень придти.
А работать
нас пока не заставляли. Ну
они видят, что мы тут сами работаем, расчищаем
для себя. И
по ковшу муки, а потом, если останется мука, то по поварёнке
вдобавок, а потом по ложке на человека. А всем делится одинаково и
маленьким
детям, и большим одинаково, потому что говорим, вдруг не хватит,
маленький
будет реветь,
а мы уж помолчим.
Ну вот, это
на день дадут, а живём три дня,
да четыре и не дают; и этим живём. Потом узнали, что малина тут есть
не-
далеко; утром как встали,
мы с этой
женщиной с Родионовной
собираемся
по
малину, она говорит: пойдём по малину,
по ведру
наберём малины и принесём, да как-нибудь кустами проберёмся в
эту деревню; узнали, тут 4 км, было от нас - там наша комендатура была.
Орловка
деревня. Проберёмся туда кустами и там за ведро нам булку хлеба дадут.
Но булки
аржаные стряпали, вот такие круглые, большие. Булку хлеба дадут за
ведро, мы
придём, ребятишек накормим; а малиной-то, чё, их разве накормишь.
Назавтра
опять собираемся. Это когда малина поспела; мы в августе так кормились.
А муки
когда дадут, а когда и не дадут. Мы уж сильно не надеялись, а эту булку
дадут,
кажный день ходили по малину, и вот так кормились. А сухари уж мы съели
тогда
все. Потом уж осенью
я стала
домой
писать письма, золовке,
да и сестра
там
была. Я говорю: не знает ни Паша, никто не знает где мы были. А он-то,
когда
она ему написала, он сбежал оттуда и к нам прибежал. И ещё
какой-то с
Сидлона сбежал тоже, недалеко от
нас жили и тот прибежал к своей семье; они с
ним
сговорились; они не знали друг дружку, они идут дорогой и
разговорились: «Ты куда идёшь?» «Да
сослали у меня семью, так я к семье иду». И
другой-то тоже: «Ну пойдём вместе». И вот вместе
шли. Дошли до Коломенной,
где пристань и пароходы
останавливаются. Им говорят: «Да нечего там делать, не
ездите, их там всех
прибили». Ну а мы говорим: «Хотя прибили, а мы всё
равно поедем, узнаем. Раз
доехали до етих местов, то поедем, узнаем». Ну вот и приехали.
Я видела во
сне, что мы легли спать, а
назавтра мы опять собирались по малину. Легли спать, и вижу во сне,
вроде бы
пришёл мужик какой-то и говорит: «Женщина, к тебе завтра муж
придёт». Говорю:
«Какой муж?» «Твой».
Проснулась, а
никого нет.
И так что-то мне стало жутко, одеваюсь одеялом. Ну и
вправду, завтра гляжу – идёт. Бегут оттуда, а мы не с краю
жили, а крайние, кто
вверху, кричат: «Марья! Марья! Павел пришёл». Ну
вот он подходит, мы
выскочили, бегу
к нему, плачу. «Ну не
плачьте, теперь я пришёл». Ему
уж тогда
было 27 лет, а мне 26-ой. Тогда мы сильно бежали со ссылки, убегали
куда
попало, кто домой. И тут избушка продавалась, говорили, что кто юбку
отдаст за
избушку, то его будет. Там ещё ни окошка, ни дверей, ни печки
– сруб только. Oн
говорит:
«Давай юбку какую-нибудь».
Я говорю: «Какую, у меня и юбок-то нету. На вот, последнюю и
мы будем в избушке
жить». Юбку отдал, а двери в избушке нету. А он сроду топором
ничего не делал;
а тут дверь сам изделал и притолку, печку из глины сбил, сам опечек
сделал,
окошко-дырочку. А икону в большой
ящик
положили нам; мы это стекло-то вытащили, в окошко вставили. В этой
избушке нары
сделали, он полати изделал, доски. Маленькая избушечка была, и оба жили
в ней.
Тогда я
тифом заболела. Это уже было перед
Рождеством, за три дня до Рождества. К нам старушка пришла я и говорю:
«Бабушка
Аграфена, я сильно заболела. Ты чего-нибудь сделай, стряпать
помогай». А
стряпать муки
-то мало давали; мы
гнилушки, да всё это, пни берёзовые. Знаешь, как пень-то берёзовый
высохнет,
его толкнёшь, он упадёт, сам рассыпается, мы наломаем из него хорошо,
вcё это
измельчим в ступке, истолкём, и просеем решетом, и вот на этом
замешаем, как на
оладьи, густо. Муки нисколько, а только закваски положим и замешаем. А
утром
подвинется как шапка, тогда пригоршни две муки туда, и замешается; вот
едак и
стряпали хлеб-тo. А сверху корочки-то размочим, так ничё они, а
мякишок-то
мягкий. А я когда заболела, и ничё не стала есть. А сначала заболела
вот так
значит, за 3 дня до Рождества. Сидели мы, чай пили, и вдруг меня
понесло,
понесло вокруг, даже голова не болит, ничё, и я упала. И как раз тут
койка
стояла, я на постель-то упала, и ослепла сразу, и не вижу, а
темно-темно в
глазах, даже нисколько не вижу. И мужик дома был. Я говорю:
«Паша, я ослепла».
«Как ослепла?»
«Даже
нисколько не вижу».
Он говорит: «Ну, а чё такое случилось?»
«Я не знаю».
«Болит
ли чё у тебя?»
А у меня
ничё
не болит, я и говорю: «Нет, ничё не болит. Только голова
кружится и
ослепла».
Тогда
смотрю – зелено, зелено стало в глазах
и светло. Говорю: «Всё, вижу» - и села, Села и
только один раз чаю пимнула и
опять упала
- опять снова
темно стало, закружилась голова, да
опять ослепла я. Потом полежала, полежала, тогда опять светло стало и
начало
голову ломить. Так стало ломить, голова заболела, заломило.
Ну он пошёл
на работу, а он приходил
пообедать, тогда уж корчевали, посылали тогда на работу, корчёвка была.
Бабушка
Аграфёна тут пришла к нам, суседка
наша. Я говорю: «Бабушка Аграфёна я заболела чё-то
сильно». А она: «Дак чё
болит?» «Голова».
Она говорит: «Лезь в
подполье, да накопай
глины и
привяжи к
голове. Она и вытянет жар. Холодную глину, красную».
Я так и
сделала, привязала, легла на
лавочку; у меня голову уж не ломит, а только ноет. Хорошо мне стало и я
уснула.
Не помню как, проснулась, а голова у меня, как кирпич. А глина-то
спала, и я
говорю: «Вот как хорошо, и голова не болит, только ноет. Я
ишшо приложу».
Постаре была бы, дак
поумнее была. Ещё накопала и чтобы она у меня не
ныла. И ещё привязала, и легла и ещё уснула. А когда проснулась, то уже
ничего
не помню. Вот как сама себя сгубила.
Паша
пришёл, а я уже ничё не могу. Чё он
спрашивает, а я ничё не знаю, не могу ему ответить. Он говорит:
«Ты чё,
заболела». Я говорю: «Паша, я сильно заболела,
голова так у меня болит, я не
могу». И исть не стала. Он говорит: «Тебе чё надо
исть?» «Ничё не надо». На
завтра вспомнила, что мёду надо – вот мёду поела бы. И он мне
где-то
полстаканчика принёс, у кого-то мёд был. «Олади тебе надо
состряпать из
чистого, из чистой муки?» Я говорю: «Ну
состряпай». Он состряпал оладки. Я
оладки-то
намочу, мёд только слижу и опять макаю. Он мне: «Ты оладки
откусывай». «Нет, мне лихо, не хочу». И
так и не кусала оладик.
А мёд-то ела. Назавтра он говорит:
«Ну чё тебе сделать?» «Мне, знаешь, кого
надо сделать: булку из чистой муки».
Булку такую большую в сковороде состряпай и чем-нибудь бы облить её,
как бы
сметаной, как делали раньше».
«Ну
где я
тебе возьму сметаны?»
«Ну
хоть так булку
состряпай», - я говорю.
«Ну
и
состряпаю». Он состряпал булку, а она пресная была или какая
у него, с вечера
не поднялась, в печку её посадил. Ну чё, мужик дак мужик. Ну и оттуда
её
вытащил, корочки -то все засохли, а в серёдке-то там
прямо
тесто. Он:
«Ну вот давай, тебе булку спёк». Я посмотрела булку
эту, и
мякиш-то вот так взяла оттуда - это уж я не помню как, это он
рассказывал:
Взяла, - говорит, - мякиш вот так,
да
его вот так мячиком сделала, скатала, да как об стенку бросила. Он
говорит: «Ты
чё делаешь?» «А кого ты мне дал, ись-то, тесто
какое-то». Ну это он только
говорил, но я не знаю, я уже была без сознания.
Это за три
дня до Рождества заболела и сразу
стала без сознания. Это я голову
простудила
глиной. Ну и вот так мы пожили маленько в землянке. Когда мы
уж оттуда пошли, то там семей пять или четыре оставалось только; а было
много,
с нашего района, там по районам, вот наш Крапивинский район тут, а
километра
через два, другой район, там Ленинский, Тактинский район, Локтевский
район.
Он
пришёл, да и говорит: «Пойдём, Нечаевы
бежали». А землянка у них большая,
нары
хорошие. «Давай в эту. Наша избушечка маленькая, а там тепло,
печка железная
стоит». Он был сапожник хороший и ему приносили даже войлок,
шил он и зарабатывал
ещё кроме этого, кроме муки этой
– ну
и они хорошо жили. Уехали все. Я же
не могу ни пойти, ничё. Но вот это помню, что он меня взял
под пазухи
и тащил: «Ну ты иди хоть
сколько-нибудь ногами-то». А я только переплетаюсь и не могу
уж пойти никак, и
уж тут недалеко
было, метров сто. И туда
меня перетащил и там нары большие и положил. И тут я уже ничего не
помню. И уже
на масленки опомнилась. Это в феврале последние числа, помню. А он тоже,
недели две
прошло, заболел, и со мной рядом
лежал, только я без сознания, а он меня с боку на бок переворачивал, а
сам в сознании
был, ворочался и всё делал сам. Так рядышком мы лежали с ним. Только
помню, что
говорил: «Ты надоела мне,
опять
переворачивать, я сам-то не могу
переворотиться, да тебя».
А я:
«Перевороти меня, перевороти». И вот думаю, он
скажет: «Как недоела». А я: «Да
ладно, я сама переворочусь». И вот думаю,
что
поднимаю руку, а
она не
подымается. Думаю,
как
переворочусь, сейчас
пальчик поднять
– подымаю, подымаю – нет не
подымается. Ничё у меня не выходит,
ничё
у меня не подымается. Опять: «Перевороти меня».
Переворотит. В землянке столбы
были, и я вот у столба лежала, а из-за столба выглядывают цыганки
какие-то, как
большая кукла и вот такие
они чёрные, лохматые и всё вот вижу, мужчины цыгане и женщины цыганки,
и вот
они оттуда выглядывают, да вот эдак всяко меня дразнят, дразнят. А я
посмотрю
на них:»Ой, да что это такое, да докуда они будут меня
дразнить.
Чё это они меня дразнят-то».
И тут вот
дня три прошло, как они эдак меня
дразнили-то, это уже в последних числах февраля. Ну а я говорю:
«Паша, дай мне
ножик, я их заколю».
«Кого
заколешь?»
«А
вон видишь, они уж мне прямо надоели,
дразнят всяко
меня, чё я им сделала,
цыганам-то. Всяко обзывают да и дразнят-то».
«Не
надо никакого ножика,
лежи».
Я опять плачу: «Паша,
дай мне ножик». Он
сам-то не может встать, а я опять: «Валя, дай мне ножик,
пожалуйста».
Не даёт.
Паша говорит: «Не давай, она меня
заколет». Теперь эта бабушка Аграфёна пришла к нам. Она нам и
стряпала, и
поила. Бабушке
Аграфёне уже лет 60 было.
А Вале было - седьмой год, дак она
эти
шайки из-под нас таскала, да всё делала, по воду ходила, с котелочком.
Ночью
пойдёт, вечером, не боялась ничего. Паше всё холодную воду
надо было
пить. «Валька,
ступай по воду!»
В десять, в
одиннадцать, в двенадцать
её на
прорубь посылает по воду. А я
когда очувствуюсь:
«Паша, чё же ты
ночью ребёнка
на прорубь посылаешь?»
«Ничё, пушшай сходит». А она: «Я не боюсь
никого» Побежит, притащит. А он всё
холодную воду пил. Теперь эта бабушка Аграфёна пришла, я и говорю:
«Бабушка
Аграфёна, дайте, пожалуйста, мне ножик, они мне не дают покоя; три дня
прошу у
них, а они не дают, я бы их заколола». «А кого ты
заколоть хочешь?» Я говорю:
«Вон смотри, как из-за столба выглядывают, ты видишь,
всякие-разные». Они как
большая кукла, их много, человек,
наверное,
десять, выглядывают, и меня всяко дразнят – косматые, чёрные
и всяко
против меня
губами дергают, языки
выпёхивают». Она
говорит:
«Ну ладно. Ты
, Павел, отодвинься от неё маленько подальше. Девчонки, вы
отойдите».
Ну вот, она дала мне ножик. А я
его взяла вот так за ручку, а остриё-то туда, и как дала в этот
столб-то, не в
столб, а туда в щель, где они выглядывают, туда,
и так в
стенку нож и воткнулся. И с тех пор
больше ни разу так и не выглянули. Я говорю: «Ну вот хорошо,
заколола. Спасибо
вам, что
вы дали мне ножик». Заколола
их, и больше не выглядывали. То ли это мерещилось, то ли чё было, я не
знаю, но
три, пять дней прошло, и мне стало лучше, выздоравливать стала. Голова
маленько
меньше стала болеть. А голова-то два месяца уже с Рождества лежала,
она вся
скаталась, да вшей-то у меня кучами
там, в голове-то, а волосы у меня большие были. Ну вот бабушка Аграфёна
пришла,
как раз было на масленке, я и спрашиваю:»Бабушка Аграфёна, а
когда будет
Рождество?»
Она и
говорит: «У, дочь моя, какое
Рождество; сейчас
уже масленка». Говорю:
«А Крещенья не было?»
Она:
«Да и
Крещенье прошло, масленка сейчас». Я говорю: «Ох
ты, я, девка, совсем ничё не
знала, как прошло всё это». Гребень мне дали и я стала голову
чесать – не могу
расчесать, так маленечко чуть- чуть расчесала. Как стала чесать, мне
дали белую
тряпку, как чесну, так целый
подол, да
крупные, мелкие. Били, били, и они мне помогали. Ой, всех прибили,
зачесалась,
легла. А потом всё равно надо
было мне остричься. Все полезли волосы, вылезли, по краям вот только
здесь
остались волосы, и последние Паша отрезал, а тут всё голо было на
верхушке-то.
Ну потом
тоже он после меня лежал. Как
лучше мне
стало, то в марте распухли
ноги, не могу на них шагать и всё. Все растекли, осложнения что ли. И
так до
самой Пасхи всё не могла, болела, а потом ничё стала. Тогда и на работу
стала
ходить.
Все
уж разбежались, а у
меня Толе уже пятый
год пошёл с
осени.
Мы пошли до Петрова дня за два-три. Хлеба нету. Тогда мы уж там в
колхоз вошли.
Тут нам свекровка говорила: «Нельзя в колхоз войти,
грех», а там вошли в
колхоз. Ежели в колхоз не войдёшь, хлеба нисколько не дают. В колхоз
вошли,
ходили, корчевали. Мне давали 8 кг. мукой, и Паше давали 8, а детям
давали по
4 килограмма. Им троим давали 12 кг. Ну
всё равно мы это с гнилушками ели, да с
травой, с чем попало настряпаем – вот
так и жили. Потом обносились все,
не в
чем было совсем ходитъ. Не то, что заплатку пришить, её не за что
пришивать,
всё тут дерётся, где завяжем узелочком, где как. Которое было чё
получше, так
мы распродали,
да променяли на хлеб,
нечего было носить совсем.
Если
пойдёт вся семья, то отправляют в
Александр-Акминск, туда дальше, говорили, что
ещё тысяча
километров от нас дальше (места, названия неясные). Если
пойдёт один мужик, то отправляют его в Сидлон, а жена тут остаётся. А
ежли жена
пойдёт, сбежит с
детьми, то её обратно
вернут на посёлок,
если муж
тут
останется». Паша говорит: «Ну чё будем делать, как
будем тут жить? Теперь все
идут, теперь можно идти пешком». Пятый год пошёл.
«Ну, давай, ступай, -
говорит, - а ежели не пойдёшь, я сейчас пойду, я уйду, а ты тогда
оставайся, как
хочешь, я
не могу больше». Да у него уже и лёгкие
болели. «Я не могу тут больше». Ну я подумала,
подумала, чё
делать,
как пойти?
Он говорит: давай, задами иди, а то там ловят, там
комендатура. Это сразу в Орловке, 4 километра от нас.
Бокчар
переплывали, туда паром
был, так по
цепочке, верёвку натянули. Но
вот, а так он глубокий,
ни мост,
ничего нельзя
тут построить, а там
как-то было, нешироко.
Ну а этой стороной
пойти, кустами, там тоже есть
заимки, где два домика, где три домика. Это раньше,
говорят,
тут были
кулаки, сбежали, да
селились в тайге. Одного-то Паша yзнал, он косоротый такой. Паша
последнее
время был ветеринаром конным, учили шесть месяцев.
Он уже
районным стал ветеринаром, ездил по
посёлкам и увидел его. Говорит: «Он меня бичом отлупил,
раньше ещё, когда Паша
маленьким был , когда ему лет десять было или
восемь, а
они жили в деревне. Пасеки большие, поедут на базар, к нам
заезжали, мимо нас. А как-то свекровка и свёкор знакомые
заезжали к
нам. Заехали, а у них было две
кадки мёду. Паша выпряг, гости ночевать в избу ушли. А я говорю:
«А ну-ка
посмотрю, чё
это в кадке-то», -
подошёл, а там мёд. Он рукой туда залез, кадку открыл, да рукой, да
давай мёд
исть. А косоротый вышел как раз,
увидел, да плетью давай, и так меня
ожёг два раза Я и боюсь папе сказать, молчу уж, раз сам
провинился».
И узнав его. Этот-то косоротый
здесь живёт, а он раньшe на заимке какой-то жил, занимался пасекой.
Переплывёте,
там можно переплыть, женщина на лодке переплавляет через реку-то.
Денег-то у
меня было
8 рублей. Я
хлеб
состряпала килограммов пять,
состряпала
с гнилушками, с сумками назаде,
до
Локтевского района он нас
и
проводил. «Ступайте
вот тут, через гору
перелезете, там прямо дорожка, и там только полтора километра, и тут
посёлочек
другой».
Мы пошли, и
правда, деревни прошли; тут не
деревня, а посёлок, кулаки там жили
и
городьба. Мы перелезли через горы, а тут две
дорожки
очутились вправо и влево за городьбой, и мостик тут. Он сказывал
про мостик и я так смотрю, мостик. Посадила их: «Вы тут
сидите, я одна
схожу». Сперва
недалеко, куды эта
дорожка ведёт, может, по дрова. А тёмно, пошли мы часов в 12 ночи,
чтобы никто
не видал. Шла, шла, с километр дорожка в
лес, вся разошлась,
нету -
полянка. Обратно вернулась,
другая дорожка
тут, я и говорю:
«Наверно, эта дорожка правильная, давайте пойдём этой
дорожкой». Пошли этой
дорожной, шли-шли, километра два
прошли,
что- то нет
никаких заимок – обратно
вернулись. И вот такие
колодины по
дороге,
сантиметров по 60. Толю-то я вот так перетаскивала за ручоночку, возьму
его, да
перетаскиваю, он пешком шёл, а трава с Петрова дня, она вот такая
вышина, да
мокрая вся, да холодная, все мы мокры, вымокли,
назад-то
вернулись, в
лес ушла
дорожка-то, нету её. Обратно вернулись, опять до городьбы, что
делать-то
теперь? Паша мне говорит: «Так вот,
нету».
Зашли в один дом,
постучались:
«Скажите, пожалуйста, где от развилки дорога».
Хозяин
вышел: «Вон иди туда, по эту сторону, влево». А
Паша-то показывал вправо, когда
через горы перелезить, там рожь, рожью дорожка; там лес, посерёдке,
просечена
лысина, топором. Это сделано, чтобы не заблудиться.
Пошли, и
правда, километра полтора только
прошли, слышим, собаки
лают. Ну,
слава
Богу, пришли, солнышко уже всходит. Блудили всё, ходили. Вижу, корову
доит
женщина у ворот, я и говорю:
«Гражданочка,
к вам можно зайти, высушиться, смотри, все мокрые». Она
говорит: «Заходите, заходите! Раздевай их». А
солнышко-то уж выглянуло, я их
раздела, всё выжала с них,
голых их по
маечке одела, а это всё повесила сушить, и с себя
тоже. А она
как раз подоила корову, бежит и
говорит: (а у них постлано через всю комнату
потники,
шубённые одеяла) «Ложитесь все». Легли, и я думаю:
«Отдохну
хоть маленечко, потом встанем, пойдём, а то кто-нибудь увидит,
комендатура».
Ну, легли и
как уснули,
так до десяти часов. Я не помню, как и уснула. Намёрзлась, встали, она
налила
нам простокваши, хлеб
нарезала: «Садитесь,
ешьте». «Скажите, пожалуйста, где тут в Локти
переправляет женщина, чтобы
нам комендатуру-то
не видать». Он
говорит: «Вот идите, туда тележная дорожка пойдёт, километра
три и
там она переплавит». И правда, мы так
прошли, в лодке женщина переплавляет. Ну думаю, она за деньги
переплавит нас,
как там. А Бокчар там широкий. На той стороне женщина. Я говорю:
«Гражданочка,
переплывите, пожалуйста,
сюда». Она
переплыла: «Садитесь»
Говорю:
«У нас
заплатить нечем, Вы нас переплавите так или нет?»
Думаю:«У меня
8
рублей». Кто его знает, как я поплыву, на
пароходе или где? Говорю: «У меня денег вот только 8
рублей». Она говорит:
«Садитесь,
я так вас переплавлю».
Переплавила,
я ей спасибо сказала. Пошли мы
тогда, одну деревню прошли, никто ничё не сказал, вторую
деревню
прошли. А до Бокчаp-то ишо не дошли,
где 20 километров, другой
стороной
идём.
Идёт мужчина. Тут уж до Бокчара последняя деревня осталась. Говорю:
«Гражданин,
скажите,
пожалуйста, где
нам
пройти
Бокчар, чтобы задами,
чтобы нас
комендатура не видала».
Тут комендатур много. «А то
нас
поймают».
Он говорит:
«Вот с полкилометра
не дойдёте
до Бокчара и влево будет
дорога, мостик,
горочка и тут идите
этой
дорогой, большой, с этой
своротите,
эта тоже большая тележная
дорога».
Мы подошли,
и правда, горочка, мостик и
дорога большая. Мы свернули и пошли.
Шли-шли, а
там через полтора километра от Бокчар Самодуровка деревня.
Шли-шли по этой дороге километра 4 прошли, думаю, чё же, то ли в
лес
идём, ничё не видать, и деревни не видать нигде. Тут косят, женщина и
мужчина, я
подошла к ним: «Скажите,
пожалуйста,
далеко ли ещё Самодуровка?»
«А
куда ты идёшь? В Самодуровку-то разве здесь? В лес эта дорога, дальше
в тайгу».
«А как в Самодуровку?»
В
Самодуровку надо через Бокчар пройти,
больше
тут нигде
не пройдёшь, согра,
лес, согра.
Кочки большие, вода. Я говорю: «Ладно».
«Вернитесь обратно,
это же в лес дорога». Мы обратно вернулись. Солнышко
закатывается. И подошли к
воротам, никого
нет и охраны. В первую
избушку попросились. Говорит:
«Нет,
у
меня сын коммунист, к нам часто просятся кулаки». Видит, что
я в
шубуришке таком, одна нитка шерстяная,
другая холшовая, ободрана и ребятишки-то такие. Я к другому краю, в
другую избу
попросилась. Там тоже говорит: «У меня зять на пашне, на
покосе, косит сено, он
у меня партейный, не пустит. Я-то пустила один раз, а он было меня из
избы
выгнал». А я уж хитрить начала. Я говорю: «У меня
мужик был в Сидломе, письмо
мне прислал, приходи как-нибудь. А у меня ни денег, ничё, чтобы мне
ехать.
Пошла, день и ночь иду. Пустите, пожалуйста, ночевать».
«Нет, говорит, я боюсь,
всё равно, видишь, ты какая, увидит, что кулачка. А документы есть у
тебя?» «Есть,
говорю». А какие
документы, нет у меня, мужик-то у меня дома,
на посёлке.
А сама она
стонет:
«Ой, ой,
ой!»
Я говорю: «Чё вы стонете?»
«Да у меня сильно живот болит, я надорвалась». Я
говорю: «А я умею править.
Давайте, я
вам поправлю живот». «Ну
давай
поправь». Я мало как могу, поправила ей
живот; она тогда: «Ну ладно, садись». Нам
предложила
простоквашу. Налила, хлеб нам нарезала, говорит: Если положу
я вас, то только в сенки,_в холодной».
Я
говорю: «Ладно, и то хорошо, лишь бы комары не
кусали». Легли мы. Стемнялось
только слышу: тпру. Приехали зять её и дочь. А мы под ногами как раз
лежим. «Кто
это опять у тебя? Опять,
поди, пустила кулаков?» Она говорит: «Да, кулаки.
Мужик ей прислал документы,
его освободили, она уже идёт вольная. Пускай ночует тут». Он
говорит: «Смотри,
вольная ли, а то опять меня потащут в сельсовет».
«Вольная, вольная. Она
сказала, что вольная». «Документы у ней
есть?»
Думаю, что
сейчас потребуют
документы,
и ночью выгонит.
Ну
ладно, он прошёл, ничё
не сказал. Он
сказал ей: «Утром, как только светать будет, разбуди её,
пускай идёт». Ну а мне
это и надо. Я ей это и сказала: «Баушка, ты меня разбуди
поpaньше, что как
светло будет, светать, чтобы меня не видал шибко народ-то».
Утром светать
стало, она дёргает: «Вставай, вставай, гражданка,
ступайте». Тут уж я ей не
говорю, что документы есть или нет:
«Баушка,
где задами можно пройти,
чтобы не на
комендатуру». У тех ворот комендатура, да их там стоят
четверо. Я
говорю: «А где же мне пройти
задами?»
«Тут
можно, через
гору перелезешь, а тут согра, березник.
Но
пройдёте, может, как-нибудь. Где
вода, где
нету». Говорю: «Ладно,
пройдём». Она взяла на руки у меня Толю, и пошли. Пошла она с
нами и дошли до
горы, перешли поперёк, перелезли, она и говорит: «Идите вон
туда, метров пять в
березник». Когда деревню всю прошли, я
смотрю
сквозь березник, стоят четверо у
ворот с
ружьями. Вот
прошли мы ишо дальше туда, согрой, уже дневать стало, гляжу, тут
большая
дорога, широкая. Вышли на дорогу – их там не видать. Прошли
километра
полтора. Рожь, перепахано и дальше
некуда пойти – нет дороги. Я говорю: «О, это не в
Самодуровку
дорога».
Обратно пошли. И только
стало чуть
их
видать, назад маленько, думаю, где-нибудь туда наверно
дорога,
поперёк, опять
пошли по траве. И смотрю, двое
ребятишек едут на конях
верхами,
небольшие, я
и спросила, когда они рядом
с нами оказались: «Мальчики, где в Самодуровку
дорога?» « А вон, говорит, в
Самодуровку, дорога», – указали, тут недалеко от
неё. Мы дошли до дороги, и
пошли. В Самодуровку пришли, спросили, где тут
в Вордатёр
дорога. А у меня мужик-то ветеринаром конным был, он в
район-то ездил туда. Он уж тут деревни знал и сказал, что за
Самодуровкой будет
Вордатёр.
Я спросила: где на Вордатёр дорога?
«А
вот тут в Вордатёр дорога, иди прямо туда.
Тут восемь
километров».
Мы пошли
туда. А у меня Толя не
может
пойти-то, сядет на дорогу: «Ножки
болят», - и всё.
Я его
водила лесом, он
у меня мокрый был, да через колоды лазили. У него ножки-то наверно
устали, чё,
пятый год – и не идёт. Сядет на дорогу, пыль, тепло; сидит
прямо с маху, в
пыль-то, так она его и всего обоймёт. «Не пойду!» И
я уж всяко, возьму
прутик:
«Садись на коня; а вот другой прутик,
погоняй другим. Девчонки, бегите вперёд, а он вас будет догонять.
Посмотри, вон
старухи бегут впереди
тебя, а ты на коне, мужик,
не
идёшь». Он
тогда подстегнёт своего коня прутиком, да бегом: «Я старух
твоих догоню». Бежал
вот так помаленьку, да так
до
Вордатёр-то и дошли. Там уже не мог идти, сел,
на руках
уже тащила его до Вордатёра. Дошли, как раз был обед.
В
третий дом зашли, старик со старухой жили. Я
говорю: «Бабушка, можно у вас отдохнуть? Мы
устали». А тут кулаки бежали, много
всяких разных через
них. Старик
говорит: «Садитесь,
поешьте». Нам
молока, простакиши налила, хлеба своего дала: «Ты свой
береги, хлеб-то, ишо
тебе пригодится». А у них хлеб почему-то весь аржаной был. У
всех был хороший.
А этот белый хлеб, нарезала нам,
наелись. «Ложитесь, отдыхайте». Я легла, маленько
отдохнули и
мы пошли. Она говорит: «Тут деревня будет
Антоновка, она с полкилометра будет в сторону, а дальше Ивановка - там
два
километра. И вы дойдёте, зачем вам в Антоновку заходить. Может, дойдёте
до
вечера туда помаленьку». А мне же надо на руках
нести
Толика. Ну и пошли. Надо бы зайти в Антоновку, а мы не зашли в
неё. Только прошли мы Анитоновку и тут как-то дорога колесом, как
коромысло, и
оттуда метров двести, смотрим, выехали оттуда из-за околицы на бричке,
две
лошади, а сзади едет комендант на тележке. А народу человек двадцать
идут
пешком, целая бричка накладена калаушов (мешков), поймал комендант.
Это
они
изловили беглецов, таких, как
я беглец. Я
думаю, чё делать? А мне ишо Паша
рассказывал, что какую-то женщину с детьми поймали, а она села на
дорогу, и
говорит: «Не пойду никуда, хоть убивай меня, хоть ты чё мне
сделай, не пойду».
Он
говорит, плюнул на неё,
да и уехал. А если тебя поймают, то
ты садись и
сиди нa дороге. Так
он мне наказывал. Он ездил везде, так слышал.
Приедёт и
смеётся. Как раз вышли мы. Если бы тут был близко лес, мы бы
добежали в лес. Или в рожь забежали бы, а то ничё нет, с полкилометр
туда и
сюда чисто поле, только травы по колено будет, и всё. Ну думаю, чё
делать?
Вижу, что они остановились. Комендант слез и вперёд брички, ехал-то он
сзади. А
тут он зашёл, весь народ стоят возле брички, а он зашёл вперёд, и наган
держит
вот так, рукой-то вперёд, на нас, чтобы куда мы ни пойдём, видно,
стрелять
чтобы. Смотрю: всё, попались теперь
мы. И говорю Вале с Шурой: «Возьмитесь за руку, друг за
дружку». Ей
уж был
десятый год, а Шуре восьмой год был.
Толе пятый был
год. «Возьмитесь!» А я
Толю несу на руках. «Возьмитесь за руки, и если будут
останавливать, что-то
говорить, но вы идите, отворотите маленько от коменданта; он, видишь,
стоит, вы
идите и не разговаривайте, и я от вас, отворачиваю и пройду. Может
быть,
пройдём».
Ну вот,
дошли. Они у
меня вперёд отворотили, и идут.
Он поглядел
на них, ничё не сказал. И я
подхожу и тоже отворотила в бок и иду. Он говорит: «Стой,
гражданка». Я говорю:
«Что мне стоять, мне некогда стоять».
«Как некогда стоять? Я сказал: стой! Ты
чего хочешь? Стой!» Я остановилась и говорю:
«Что
вам надо?» «Давай
детей мне в тележку сади, и калауш свой клади на бричку, а сама иди
пешком с
этими людьми». «Куда идти?»
«Домой,
обратно на
посёлок,
откуда ты идёшь». «А почём ты знаешь, откуда я иду,
с какого посёлка?» «Да я
вижу тебя. Ты чё мне глаза-то закрываешь. Я же вижу, кто ты, чeго ты,
говорит,
ишшо».
Вольные-то
не ходили такие ободранные. А тут
узелочками связана юбка, шубуришки, и дети такие. «Садись,
тебе говорят. Садите
детей». И за руку. «Никуда не пойду»
«Не тебе разве говорю! Я тебе сказал,
гражданка. Сади детей, идите!» Я говорю: «Вы меня
не шевелите! Куда я иду, туда
я иду». «Куда ты идёшь?»
«Домой». Чё уж, он разве не видит меня, так и
говорю:
«Домой».
«А
почему идёшь домой?» Говорю:
«Разве вы не знаете, почему я иду домой? Сколько хлеба даёте?
А денег ни
копейки. Ты видишь, какая я, ведь мне стыдно. Тело видать уже и
ниоткуда ни
копейки». «Я
сказал,
садитесь! Садите детей». А я говорю:
«А я не хочу
слушать».
«А я тебе чё
сказал? Садись!» – вот эдак сказал:
«Садись!» Тогда я ребятишкам: «Садитесь
на
землю, на дороге» - они сели, и я села. Толя на коленки мне
сел, а эти возле
меня сели. Он говорит: «Ты что села?» Я говорю:
«Гражданин комендант, Вы
сказали, что садись, я и села». «Я тебе сказал, что
сади детей,
а ты тут села на землю. Ты что,
смеёшься?»
«Нет,
я над Вами нисколько не
смеюсь, а Вы как сказали, так я и сделала. Пожалуйста, не трогайте
меня». «А
ты, пожалуйста, не
задерживай меня.
Солнышко высоко, уже поздно, а мне надо ещёе в Бокчар сегодня уехать,
через
Вордатёр. И обратно надо засветло явиться туда. А ты меня
задерживаешь». «Я вас
нисколько не задерживаю, пожалуйста, езжайте, гражданин
комендант». «Нo мне же
тебя нельзя оставить». «А
я чё, без
тебя
не знаю дорогу?»
«Не
хочешь
садиться?»
Говорю:
«Нет».
«Пошлю
охранника сюда, и он тебя тут дня три
продержит и хлеба тебе и ничё не будет, и комары тебя
заедят». «Ну и пусть
едят, всё равно умирать-то, хоть там комары съедят. На посёлке без
хлеба живём,
как попало, по три дня не ели хлеба. Ведь по три дня едим травы. Всё
равно уж
умирать, так пускай уж едят комары». «Вот я возьму
вас да пристрелю».
Я говорю: «Хорошо, гражданин
комендант! Только перво детей перестреляй, тогда меня, чтобы я знала,
что
никого нас
нету». А сама не плачу. Так с
ним спорю, и говорю: «Детей перестреляй, а тогда
меня». А он говорит: «Гражданка,
если бы у нас было такое распоряжение, что вас стрелять, то мы бы всех
вас
давно перестреляли, чем смотреть, как вы мучаетесь, как бежите. Да все
ведь вы
уж убежали оттуда, и куда
попало
разбежались. Смотри, сколько понаехало сначала, а теперь
никого уже
нет. Там мало совсем. Мы вас перестреляли
бы, да нету у нас такого права, чтобы стрелять, но только обратно
ворочать.
Давай, тебе говорю, садись».
«Нет,
не
будем садиться». «Давайте, берите детей, садите!
Сумку с неё берите». С меня
сумку один начал сдёргивать. Ну он же их заставляет, эти же кулаки,
сдёргивают.
Я говорю: «Не трогай сумку. Это
на
последние деньги купила хлеб, а ты у меня хочешь отобрать. Не
трогай!».
«Да
я у тебя не отбираю, только на воз хотел
положить».
«Я
говорю: не трогай!»
«Давай, детей садите».
А
они меня поймали зa ноги вот так; да обои
девчонки и Толя заревели рёвом. Я говорю: «Не троньте детей,
не пугайте». Один
суёт им конфеты: «На, девочкам, конфеты. Давайте, садитесь в
телегу». Они берут
конфеты у коменданта, да скорее их в рот, в карманы закладывают
(смеется). А
сами голодные и опять за меня; «А-а-а-а, а-а-а-а!»
«Ну ладно, садите их вместе,
в телегу мою, и её». Теперь они вот так сзади взяли меня, за
эти места один, а
другой за ноги. Комендант-то один, а это кулаки же, которых он гонит,
мужики. И
их взял, девчонок-то. А я одну ногу как вырву, да как пну ему прямо в
брюхо. Он
бросил: «Она пинается ногой-то». Бросил мои
ноги-то, и тот бросил: «Она
пинается». Ну посидели-посидели. Он тогда:
«Гражданка, ну что ты? Я же опоздаю,
мне же будет за это! Давай, не задерживай меня». Я говорю:
«Гражданин
комендант, я не держу тебя, давай, ступай». Он говорит:
«Давайте, берите её
хорошенько, чтобы всех садить ко мне в телегу». Вот тогда уж
один взял меня
крепко за ноги, и уж не вырваться мне никуда, а другой под пазухи взял
и
девчонок взял, всех вместе; они у меня за ноги-то держатся, и как
гнездо
куриное и положили, посадили всех на тележку к нему, посадили на задок.
Валю
тоже, Шypy к Вале на коленки, а Толю ко мне, а сам сел
к кучеру
– у него
кучер. С кучером на беседку сел. Ну и поехали, сумку на телеге
положили. От
меня поврозь. Вот
поехали.
Едем,
молчим. Ничё не говорим и он ничё не
говорит, и я ничё не говорю. Километра два, наверное, проехали, он
обернулся на
меня, посмотрел, да и рассмеялся: «Гражданка, вот ведь ты
противилась, думала,
что я тебя оставлю тут? Да никогда бы не оставил. Всё равно же ведь
поехала, а
ты меня продержала, смотри-ка. Ведь мне надо ехать в Бокчар засветло, а
теперь
как я поеду туда. Я ведь тоже на посту, мне ведь тоже сколько часов
дано. Я бы
везде был, а ты меня продержала». Я говорю:
«Гражданин комендант, я же Вас не
держала, я говорила же: «Езжайте, езжайте, почему Вы сейчас
на меня вину
возлагаете».
«Ну
вот ты думала, что тебя оставим. И было
так, если бы я один ехал,
я бы и
не
остановился с тобой и проехал бы, и всё. Вижу, какие уж дети, и
мать-то» (плачет)... Я сижу, заплакала.
Он
продолжает: «Уже 20 человек у меня, они скажут, они донесут
на меня.
Скажут, что он кого хочет, садит, берёт с собой, а кого хочет,
оставляет.
Мне никак нельзя было оставить
тебя. А ты вот противилась. Расскажи, на каком посёлке
живёшь или жила?»
Я
рассказала «А муж есть?»
И тогда я
начала ему врать так же, как той
бабке-то врала, что у меня документы есть. Думаю,
что будет,
то и будь. Говорю: «У меня мужик
был в Сидлоне, а теперь
он отбыл,
сколько ему там лет давали. Отбыл и прислал мне письмо, что уходи.
Он теперь
дома, меня же за него ссылали.
Давай, уходи. А с моей стороны никто не были сосланы, по
отцовой». Он говорит:
«Документы какие прислал?» Я говорю:
«Письмо,
чтобы уходить. А у меня денег нету. Ты знаешь сам хорошо,
сколько дают, замираем мы».
«Хорошо,
-
он говорит - я знаю, сколько денег дают. Если у тебя мужик освободился,
ты
сразу пиши, чтобы он за тобой сразу ехал, и если не на чего ехать у
него,
пускай документы тебе вышлет. А я это время сейчас туда к вам приеду и
скажу,
чтобы они тебе давали полный паёк, хоть 16 кг. И на детей дают полный
паёк, что
она теперь вольная, что мужик у неё освободился. И ты поезжай сейчас в
свой
посёлок, и скажи так, с этим письмом приди туда в комендатуру и я
приеду,
и чтобы тебе полный паёк давали покa до него. А он пришлёт документы,
что он
вольный, то чтобы тебя отсюда проводили». Я говорю:
«Пришлёт». А про себя
думаю: «Ведь я вру».
И говорю:
«Ну
ладно, хорошо, я тогда так и сделаю». «Не
пойдёшь больше?» – «Ладно, я
тогда буду
ждать письмо от мужика или документы или чё будет. А Вы приедете,
правда, чтобы
мне полный паёк давали?»
Он говорит:
«Конечно, приеду, комендатуру Вашу
спрошу. Ну
хорошо, ты теперь не побежишь?»
«Дак,
нет, теперь зачем? Меня некому было наставить,
а Вы раз такое наставленье даёте, то я послушаюсь Вас, никуда не пойду
больше».
Ну вот, заехали в эту деревню, где мы простакишу ели, отдыхали,
я и
говорю:
«Мы тут простакишу ели. Такие славные люди, и хлеба дали и
каши, накормили,
отдыхали. Мне сейчас
можно будет к ним сходить простакишей накормитъ ребятишек? И хлеба,
может,
дадут?» Он говорит: «Можно. Детей надо
кормить». И тут недалеко поскотина, с
полкилометра, а избушку эту видать с поскотины. Он и говорит:
«Их оставлю тут у
поскотины, тут трава
есть, коня пускай
выпрягут, и накажу им. Тут у них старший,
который
ездил на бричке, он куда-то на базар ездил –
вольный». Он
ему передаёт: «Я поеду в Бокчар, я и так туда
опоздал». А уж время - солнышку
закатываться. «А ты, - говорит – сходи, ребятишек
накорми. Детей надо кормить».
Доехали туда, он
переписал всех, их
двадцать человек и нас четверо; всех двадцать четыре человека. Он и
говорит:
«Если какой один человек убежит, то четыре дня тебе подвал
копать, за одного
человека». Это наказывает вольному. «Ну, - думаю, -
нас четверо, достанется
много копать». Чё же делать, как же сделать, как убежать от
него? Комендант
садится на тележку на свою, от нас метров 15, а я говорю этому, кому он
передал
нас: «Я сейчас пойду, ребятишек накормлю вот тут в третий
домик, видать его
отсюда. Мы тут простакишу ели и хлебом нас накормили. Я пойду и
ребятишек
накормлю ужином». Он говорит: «Ты
иди одна,
принеси сюда простакишу,
хлеба, и здесь их накорми, а детей не трогай отсюда». Я
говорю: «Да кого они
здесь наедятся, то комары, то чё». «А я тебя не
пущу». Я стала сумку брать с
телеги, а он не даёт. «Сумку не бери, ступай одна».
Я говорю коменданту:
«Гражданин комендант, он же меня, вот вы говорили, своди
ребятишек, а он меня
не пускает». А он, то ли уж так ему Господь, сказал:
«Пускай она сводит детей,
накормит. Детей нужно кормить». Я говорю: «Вы
слышите, что он говорит: пускай
«сводит», а не «сходит». А он:
«Нет, не
пойдешь». Сумку стала брать, а он: «Сумку ты не
бери, там тебя накормят».
Я говорю:
«Дак хлеба то ли дадут, то ли нет,
а без хлеба как мы будем исть». Он: «Я сказал не
пойдёшъ, не возьмёшь сумку».
Я
опять закричала: «Гражданин комендант, он же
меня не пускает». Он опять крикнул: «Пускай сводит
детей». Я тогда
сумку
вырвала у него и говорю: «Тогда нечего с тобой
разговаривать,
раз комендант говорит, я пойду». Дошли. А он кричит мне в
след: «Где ты будешь, в каком доме?»
А я
говорю: «Вон в том, третьем домике буду».
«И не больше, как комендант вам
сказал, два часа, детей накормите». «А я час только
пробуду. Если меня через
час не будет, вот я в третьем домике буду, может полтора часа, от вас
видать».
Когда пошли мы, то
часовые у ворот тут у
них. Их видать от поскотины.
Зашли к
ним, под крышей оставила детей, сама забежала в избу:
«Бабушка, пожалуйста,
скажи мне, где задами убежать, чтобы не дорогой. Нас ведь поймали. Мы,
которое
у вас ели до обеда, отдыхали. Поймали нас, обратно везут. Куда я с
детями, как
я теперь. Где задами убежать. Расскажите, пожалуйста, мне».
Девочка у
них лет 12 была тут же, не жила, в
гости пришла к ним. Она говорит: «Девочки, ведите вон через
огород, и согру,
там километра два, согра, где вода, где нет, дорожка там есть.
Пройдёте».
Девочка одна взяла Толю за руки:
«Пойдёмте»,
- говорит, и пошли. Через
огород, через согру перешли. А там гора высокая, большая. Вот на эту
гору надо
подниматься, там дорога; туда идёт, откуда мы вернулись. На гору
залезли, и
девочки тогда говорят (а уж стемнялось): «Что если они тебя
пойдут искать, то
что мы скажем, где
были?» «Как бы вас
они не спрашивали, вы говорите,
что коровы у вас нет, корову
искали».
«Правильно,
мы скажем, что
корову искали. Пойдём». И пошли девочки домой,
на дорогу;
в согру-то не пошли, а на дорогу домой пошли. А мы пошли
туда, дорогой в свои путь.
Ну вот шли,
шли. Вдруг едут на
бричке, народу много. Бричка с покосу. Я и
говорю: «Ой, увидели нас, наверное». Ну, думаю, что
если не побегут нас искать,
он жe побежит искать, как же ему
не
охота будет столько копатъ канавы. Проехали они только, мы ещё немножко
пошли,
смотрю, другие едут, тоже целая бричка народа. Проехала, я тогда и
говорю:
«Давайте, девчонки, в сторону, сейчас,
наверное,
побегут эти, их спросят, не видали ли вы там вот таких-то с
детям-то женщину. Скажут».
Зашли в
сторону, лежали, лежали, смотрим, ещё бричка едет с народом, поют
песни.
Проехали. Мы лежали-лежали...
Один
сидел, свистнул и идёт обратно, сел на
телегу. И тот, который тоже вперёд ушёл, тоже свистнул и
идёт обратно.
Тут уже я всё поняла, что это меня ищут. Поехали они, постояли ещё
немного и
поехали, шагом, потихонечку
поехали. Они
так и ехали потихоньку, чтобы услышать. Слышно было: стук-стук-стук,
потом
далеко уж слышно стук. Думаю, уехали. Ещё немного
посидели
минут пять, как
не стало слышно стуку. Надо
встать с этого места, уйти, они же знают, что нам в ту сторону. А то
они
приедут и сразу кинутся сюда искать. Разбудила и говорю:
«Пойдёмте в ту
сторону, в лес».
Подняла их, вышла на дорогу, гляжу - никого нигде не
видать, стука не слышно. Говорю: «Пойдёмте». Идём
по дороге, и думаю: «Когда
увижу их, тогда опять куда-нибудь забегу» (улыбается). Вот
шли-шли по дороге,
лес кончился. Там чисто место. Они на горе расклали огонь, коней
выпрягли, и
как раз напротив Антоновки сидят у огня и не разговаривают,
ничё,
может, и разговаривают помаленьку, не
слышно. А я не вижу,
что огонь там. Иду,
потупилась и иду. И только метров за 10 не дошла с горы-то, светит,
огонь -то у
них освещает,
ночь
тёмна-тёмна, освещает, а я метров десять
только не дошла, до горы-то в темноте-то и как взглянула –
светло. Чё-то
потупилась так, задумалась, взглянула, кожу так с меня и ободрало,
говорю;
всё, наткнулась
сама. Как же теперь?
Лес-то далеко, от того уже ушли с полкилометра и от того даже с
километр,
далеко, и сюда далеко.
Ну думаю,
попалась.
Чё же делать? Стою. Что будет, то и
будет, свернём, может, они нас и не увидят. Да и в темноте мы, пока на
светло
не вышли. Где не светит, где темно, темень, туда и свернули в траву. А
трава-то
небольшая, по колено. Зашли в траву, метров 15 отошли от дороги. Дальше
отойдём, думаю, как бы они не увидели. Давайте, ложиться тут. Посадила,
положила их тут всех,
и сама
присела, и
как прилегла в траву, сзади-то рву, да их закладываю, травой, чтобы не
видать-то, что чёрная одежа, чтобы зелёное было. Как куропатка, будто
трава на
них. И себя маленько закидываю.
А туда
погляжу, они сидят, метров 50 будет -
как не дошла до них. Кто их знает (усмехается). И не слышно, что они там
разговаривают
или нет, а только видно, что
мужчины, кони за телегу привязаны. Вот сидим, всё поглядываю. Потом
легла сама
и уснула, и не помню как. Все спят, а проснулась - светает. Не шибко
светло, но
светает маленько. Огонь не горит там и они
запрягают коней, и молчат, ни стуку, ни грому, нету. Запрягли коней,
сели на
телегу. Так же один посерёдке в белой рубахе, а другой сидит
правит,
сзади сидит. Проехали тихонько, опять
шагом, не разговаривают ничё. По сторонам не глядят. Я гляжу, глядят ли
на нас?
Нет, вперёд смотрят, думают, я там и сижу, где забежала, наверное.
Там-то уж,
наверное, они просмотрели, когда подъехали. Поехали,
гляжу, вот
уже в лес заехали, туда с
полкилометра от нас, в лес. Я оттуда шла. Минут 10 ещё прошло,
полежали: «Ну,
давай-те, вставайте, пойдёмте, вдруг будут искать». И вот
встала на ноги, и
думаю: «Вот сюда пойти, где они стояли с конями, прямо - тут
с полкилометра до
деревни Антоновки. Вдруг тут человек ишо остался. Боюсь. Или оттуда
увидят. На
дорогу если выйду, если сюда пойти, туда она вот так как дугой
загнулась эта
согра, лес, кедрач, какой попало лес, и туда до деревни,
колесом-колесом и в
деревню воткнулась в Антоновку. А туда далеко,
с километр
надо пройти. Прямо
влево Антоновка останется». Стояла, стояла, думаю, что же
делать, куда пойти,
где теперь идём? Буду Бога просить, и говорю: «Господи, если
Ты есть, то
прикрой меня
Своей святой ризой. Не ради
меня,
ради
детей моих,
я-то грешница, они-то нет. Матушка,
Пресвятая Богородица, прикрой меня Своего Сына ризой Иисуса Христа,
чтобы меня
не видали эти злые люди больше».
Вот
эдак стою и думаю опять, куда пойти, не знаю. Говорю:
«Господи, укажи мне, куда
мне первый шаг шагнуть?» Стою, как вкопанная, не знаю куда
пойти, думаю: сюда
пойти, может, увидят. И сюда пойти боюсь и сюда, думаю, вдруг они
вернутся.
Километр к лесу. Скажут: вон они идут к лесу. И вот первый шаг как
шагнула к
лесу, как кто меня толкнул. «Давайте за мной!» Они
пошли. Толика взяла на руки.
Трава -то большая, он заплетается. И пошли, а сумка сзади. Пошли, до
лесу
дошли, и когда в лес немного зашли, никого не видать. Хорошо, тут мне
сразу
весело стало. Прошли лесом так, вокруг шли-шли, наверное, до Антоновки
километра три.
Всё же
зашли в эту Антоновку. Зашли и вижу,
тоже корову доит женщина; солнышко всходит. А
мы мокрые. Я
говорю:
«Гражданочка, можно нам у вас обсушиться?» Oнa:
«Можно, можно, заходите». А там
не деревня, а как хутора, три-четыре дворика. Зашли в избу, я опять всё
выжала,
сняла, высушились; она
дала
молока,
хлеба, наелись, маленечко отдохнули. Ну пойдёмте теперь. Пошли. Ни чё
уж ей не
говорю, что нас поймали, или чё молчу.
И
с тех пор нас больше никто не имал.
И
там в самой Подгорной, где районная деревня, тут я боялась, тут много
комендатуры, пройти негде. Мужик уж у меня умер 44 года, вот когда ведь
уж,
забыла какие деревни за Подгорной. До Подгорной доходим. Мы ещё где-то
ночевали
в деревне какой-то. Дошли до Подгорной утром. Мы пошли,
солнышко
только всходить стало, и ни у кого
ничего не спросила, где задами – деревня-то большая, думаю,
как пройти, куда.
Только спросила: какая
там деревня, где
ночевали, какие там деревни, как названия. И сколько километров от
деревни к
деревне. Я сказала: «Пойдём-те прямо дорогой, что будет, то и
будь, а поймают,
так поймают». Я уже не знаю, куда, и пошли прямо дорогой.
Прямо по
улице шли и ни один человек не
встретился с нами. Никто. И подошли к воротам – никого нету,
то ли спали, как
раз пошли-то рано. Солнышко
всходило.
Наверное, скажут, ночью-то бежали, а утром поди,
никто не
убежит. Так
они подумали. И никого не было. Прошли
мы, я Господа поблагодарила, говорю: «Господи, слава Тебе,
это Ты изделал, что
они все ушли спать».
Прошли
эту Подгорную, а дальше там Вотяки,
пошли, там уже всё свой хлеб ели, там
нам не дают
(улыбается). Свой
съели хлеб, и тут в деревню одну
подошли, где нам зимником дорогу найти. На
ту дорогу
дальше, где Коломная, пристань, там ишо 90 км. Там пристань,
там и пароходы ходят и можно садиться, и вот тут в Коломне и ловят
шибко. Как
подойдёт кто из кулаков, тут их ловят и обратно отправляют. Теперь уже
хлеба-то
у меня нет, а маленечко побирались, по миру пошли: Валя с Шурой по
одной
стороне улицы, сама по
другой с
сумкой.
Да насобираем маленечко,
когда
столько
насобираем, что мне одной
не хватит
наестись, хлеба как раз не было. Пошли до Петрова дня, за два,
три
дня.
Нового-то нет ишо, и старый кончился. И вот тут-то говорят:
зимником пойти надо. Деревня там Сарафановка. 20 км до неё. Я говорю:
«Мы тогда
утром пойдём,
а пока ночуем здесь».
А хлеб
сколько-то нам дали. Пошли мы, но они
говорят, тут есть столбы, наставлены, с километр столб и опять столб.
Дорога
-то сейчас не ей идёт, а осенью, весной, да зимой едут. Грязь как была,
так
засохла вся и не гладкая дорога, трудно вам будет пройти. Я
говорю:»Ну ничё»
Пускай,
туда нельзя, там ловят, а
зимником
тут до Томска можно дойти. Ну вот
пошли мы. Шли-шли, километров 10 прошли. Тут речка, такая каменная,
быстрая,
мост через неё, а на той стороне мужик коня выпряг, с женщиной, муж с
женой что
ли, и кормят коня. Сидят сами на телеге. А мы подошли к речке, под
мост, к ним
не пошли,
спустились, хлеба тут
у нас маленечко было, поели, отдохнули,
смотрю, они запрягли коня к поехали, проехали мимо нас. Тогда мы вышли
на мост
и пошли.
Я
не могу. (Уже была
смертельно больная лежала
на
постели Мария Евпампиевна,
устала,
перерыв).
Зашли
на мост и пошли дорогой, немножечко
отошли, и лось закричал, да побежал он что-ли, лес-то захрустел как, он
каким-то дурным голосом, как корова,
но
как-то страшно замычал. А у меня отец был охотник, он рассказывал, что
лось не
ест человека, а только ударит. Не укусит человека ни за что. А я
вспомнила: ой,
лось, бежим бегом. Толя-то у меня на руках, а трава-то в колено,
дороги-то
кучками прямо, и нет там гладкой дороги, зимником-то. Километр
пробежали,
Толя-то у меня
на руках. И не слышно стало, лось второй раз замычал. Я
пристала и они пристали, я и говорю: «Пойдём
помаленьку». Так далеко убежали,
не слышно уже. Шли, шли и дошли, где уж косят люди. Там в той
Сарафановке косят
и солнышко уж садится. Они собираются домой, запрягают коней. Мы
подошли,
спросила, дороги нет ли? Я спросила: «Вы из какой
деревни?» «Из Сарафановки».
«Далеко ли до Сарафановки?» «Да нет,
километра полтора». Ну, думаю, слава Богу,
недалеко. Сели они и поехали. Думаю, хоть ребятишек посадят.
Нет,
не
посадили. Поехали, не такие, чтобы в колхоз. Муж один, да две
женщины. Уехали рысью, а мы потихонечку стали
к деревни
доходить - а я Толю всё на руках несу. Не идёт, у него ножки
болят и всё. До деревни стали подходить, а тут земляника, ягода, прямо
возле
дороги, в траве, много. Девчонки, вот они ягоды.
Я
остановилась, давай ягоду, давай Толе. Иди,
иди! А он не может, встанет, да упадёт, на ногах-то не может шагать
нисколько.
А я говорю: «Вот ягодка». Валя тоже:
«Толя, вот ягодка, идём помаленечку».
Ступает, привстал, шагал, шагал за ягодкой, да и расшагался, и встал,
сам стал
ходить, брать. Солнышко закататься, я говорю: «Пойдёмте, а то
поздно». Ну дошли
в первый дом, спросились ночевать, нас впустили. Женщина говорит:
«Если
картошку
завтра поможешь окучивать, то пущу
ночевать». Я говорю: «Помогу, только
пусти».
На
улице же комары в лесу;
все дома в
лесу у них, лес близко. Буду,
сказала, она и говорит: «Заходи». И налила нам
супу, каши, хлеба нарезала.
Наелись, она положила нас в избу спать, постлала нам. Утром встали, она
опять
ребятишек накормила: «Ну, пойдёмте окучивать».
Пошла, а как же: утром ела,
и вечером
ела. Ну и окучивала целый день.
Пообедали, она опять и их накормила, и меня.
До вечера
доокучивали, поужинали, и опять легли спать. Утром встали, она
опять ишо нас накормила, да булку большую хлеба дала на дорогу и пошли
мы.
Своего хлеба у нас ни сколько нет. Детей послала по одну сторону, а
сама по другую
сторону улицы. Пошли, а у них
собака
какая-то, да Шуру поймала
за ногу, да
платье её изорвала. Заревела она там, ей восьмой год был. Хозяева
выскочили,
отбили её. Прошли всю деревню, так с пригоршню насобирали. Кто редьку
даст, кто
картошечку маленько. Ну, слава Богу, говорю, хоть эта булка есть. Так
до другой
деревни, а там часто деревни, дошли до Томского - там 30 километров до
Томска осталось.
Надо
переплывать поперёк. Мы доходим, и как
раз пароход пришёл в Томск. Доходим к пароходу, а тут сидят, кто
продают, кто
молоко, из деревень
и покупают все.
Заходят на пароход и мы. У меня
восемь
рублей, я так их и спасла. Так
они
у меня и лежат. Мы заходим, за нами идут. Мы-то тесно так идём, Толю-то
на
руках держу, а девочки вперёд меня идут. Народу много, вплоть
идут, в два
ряда идут. Только бы доходить до
двери, а тут с винтовкой стоит человек и говорит: «Что,
гражданка? Ты куда
идёшь?» Я говорю: «Я с Томска».
«Зачем?»
«Еду
лечиться». «Как, в больницу лечиться? Ну-ка
стой-стой», остановил
меня. «В какую ты больницу идёшь? Из какой деревни?»
«Да
вот из Ивановки». «С
какой улицы
Ивановки? Ну-ка стой, стой!
А там сзади
закричали, толкают: «Что ты
делаешь?» и сталкивают в речку. Нас толкают сзади:
«Пропусти ты её, ты что там
делаешь?» Заревели
на него.
Как меня
туда продвинули, я
туда и
прошла. Прошла
и посадила их
одного сюда, другого туда, третьего туда – всех-то врозь
рассадила и говорю людям: они посидят у вас. Они же не знает, что меня
этот
толкал. А пущай посидят, пущай. Я их всех рассадила порознь, а сама
стала в
очередь за билетом. А за билетом-то много народа, и сзади и спереди
стоят.
Когда пароход пошёл, гляжу, он бегает, туда-сюда, меня не может найти.
Скажет,
поди: она где сидит с детями. Побегал - нет меня. А тут-то не видал. А
как
только я билет взяла, 4 рубля с меня взяли, это ещё старыми деньгами
было всё,
и за ребятишек за всех два рубля, а два рубля ишо у меня осталось. Я
взяла две
булки хлеба по 90 копеек - тогда был хлеб. И давайте теперь уже все
вместе,
поешьте, а я отойду от вас. Взяла себе кусочек, отломила и отошла от
них и давай
есть. Булку съели мы. Я испугалась: ой, объедятся. Маленько осталось от
булки-то. Тогда, как выходить, а приплыли быстро так, там тридцать
километров,
думаю: как теперь, не знаю. Он теперь там стоит. Стали тут все
выходить, народу
так много и впереди меня народ стал. Он: «Стой,
гражданка!» А они тут опять на
него закричали: «Чего ты её останавливаешь? Как нам тут
выходить, а ты закричал
на неё».
А я иду, не
останавливаюсь. Прошла берег,
дресва, и берег туда пологий. Вышли оттуда, а он там стоит. Народ все,
кто в
Томску, кто куда; оказалось, что
мы
вперёд всех сошли на берег и там стоит извозчик на коне. Я спрашиваю
его:
«Гражданин, скажите пожалуйста, где зимником дорога в
Кемерово?» Через Томь
переплывать, это мне всё Паша наказывал: спрашивай зимником дорогу. А
то в
поезде едут и их ловят, тоже, говорит, в поезде есть охрана, и ловят и
назад
отправляют. А ты иди пешком, зимником.
В Кемерово
спрашивай
про зимник.
Я и спрашиваю, он мне и рассказал: вот тут, вот там подойдешь, там
паром есть,
переплавят тебя. Ну пошли, а там в Томском-то тротуары-то как
стеклянные,
светлые. И вот идём тротуарами, а нам навстречу попадают женщины и
мужчины,
кто с рыбой, кто с хлебом, кто с
маслом, кто с чем. Идут и сразу: «Ой, вы с Нарыму,
наверно?»
Я говорю:
«С Нарыму». «Нате вам! Нате!»
Такая-то сумка у меня была большая, полную сумку наклали. Пока
километра три
шли, до
той пристани-то, и
целую сумку наклали. И дети тут ели,
останавливались, то рыбу едят, то ли солёную, всякую рыбу, то котлеты,
то
какие-то булочки, масло. И всё мне подают, наклали целую сумку. Не
побиралась,
сами, пока шла туда, и народ всё шёл навстречу и только спрашивают:
«С Нарыму
вы? С Нарыму?» Нате вот вам,
нате, нате!
И дошли мы до пристани и думаю: «О, теперь не побираться,
хватит до Кемерова
дойти, много». Сумка большущая
ведра на
два, наверное, в сумке, наклали. Дошли до парома, а там на двух лошадях
приехали переплавляться. А паром на этой стороне, где нам надо
садиться. Они
заехали первыми, потом мы зашли. Паромщик спрашивает: «Деньги
давайте». А у
меня-то нет уже ни копейки, я и говорю: «У меня нету
денег». «Ну тогда слазь,
нет денег, дак чё, я тебя без денег повезу? Давай слазь». Я
говорю: «Гражданин,
пожалуйста, переплавьте нас, ради Бога».
Этот мужик,
который на телеге едет-то и говорит: «Чё ты спрашиваешь с
неё деньги? Ты не видишь, откуда идёт она?». Переплыла. Как
он сказал: «Не
видишь ты, кто идёт!», я и заплакала.
Переплыли,
и тогда я тех
мужиков спрашиваю: «Где тут зимником дорога в
Кемерово?»
«А мы вот в Кемерово едем, это зимником дорога».
Спрашиваю,
какие тут деревни будут. Он мне рассказал: «Вот эта, вот
эта» – до Кемерово.
«Давай, – говорит, – мальчика подвезем,
он пристал». Я говорю: «Пожалуйста,
посадите». Посадили, да сами рысью поехали, а мне уж и не
догнать, я говорю: «Ой!»
«А нам, – говорят, – всех вас не
посадить, потому что целый груз везём». Я
говорю: «Ну тогда снимите его». Сняли его, я его на
руках понесла. Тут ещё до
Кемерово 150 км. надо пойти. Тут уж нас пускали ночевать. Попросимся,
пустят.
То десять пройдём километров, то пятнадцать, а когда и двадцать
– когда как;
когда дождь пойдёт, когда пристанем. Тут никто не спрашивал больше нас.
В
Кемерово зашли, тут такие бараки, земляные. Зашли мы, спросили. Тут уж
у нас
хлеб-то вышел. Попросили ради Христа: подайте нам
милостыню. Они
спрашивают: «Вы откуда идёте, с Нарыму? Где были
там?» Я говорю: в Бокчаровском
районе. «У нас там мать». Другая: «Сват,
брат»,
и идёт в барак. Много тут было семей и
все сбежались: кто нам яички несёт, кто
каши, кто какие-то олади, кто сметаны. У меня же и посуды-то нету,
кружка была
одна. Они нам свои, какой-то туесок давали, забыла, чё давали. Наклали,
мы
никуда больше не ходили, в одним бараке наклали мне целую сумку. И мы
вплоть до
Борисова, Крапивинского района, до неё нигде не побирались. :В
Панфилове там у меня двоюродная сестра была. Но я не знала,
где она
живёт, а спросила фамилию, имя и нам
указали.
Зашли туда,
там ночь ночевали, потом в
Борисову пришли, а тут в Борисовой-то моя сношенница, которая
инспектором-то,
они тут
живут. А
деверь-то уж умер. У него ветренная случилась и он в Крапивиной, в
районе в
больнице оказался. Давай прогревать его в воде горячей, он весь растёк,
распух
и умер. Она одна жила в Борисове, переехала
из
Крапивино. Дочь у неё была, она с дочерью живёт. Я спросила: где
Александра Петровна живёт, учительница. В деревне её знают. Они мне
указали:
«Вон там дом». Подходим, она на крыльце моет.
Мы
подошли к
ней. Я говорю:
«Здравствуйте!» Она
обернулась, да и говорит: «Здравствуйте!», да и
опять вниз, моет. Потом
встала, да
смотрела-смотрела на меня:
«Евпампьевна,
да это
однако ты?» Я
говорю: «Я». Она тогда склонилась на шею мне,
заплакала: «Что же это я не
узнала? Это Шура, это Валя, это Толенька? Давайте, заходите!»
Зашли мы, ночевали
у неё три ночи. Кое-чё своё
дала одеть
нас. Она рассказывает, как
Григорий помер. Они говорят: это перелом у тебя, посадили второй раз в
ванну.
Так он ревел рёвмя, а они его держали в ванне, и он на третий день
умер.
Пошли до
дому. Стали доходить, где мы жили -
там 20 километров ещё. Три ночи ночевали у неё, а потом пошли туда. А
золовка
моя ближе жила, мужикова сестра; а моя сестра тоже замуж вышла,
в деревне,
она дальше жила там, далеко, с
километр будет туда. Думаю, если к этой зайти золовке, то мои скажут:
«Чё же это
ты ко
мне не
зашла к первой – обидится». Думаю, если
мне эту пройти, туда зайти, тогда опять обидится: «Ты меня
прошла, не зашла». А
её-то золовкин мужик, мой брат, двоюродный. Я говорю:
«Давай-ка сюда перво
зайдём к Федосье». Мы у ней жили, когда нас раскулачили, мы
же тут у них были.
Ну вот подходим к воротам их, а она с водой идёт оттуда. Смотрит,
метров сто не
дошла до нас, а мы идём и ворота открываем. Она кричит: «Дома
нету никого».
Говорю: «Не узнала». Крючок открыла, детей
запустила, и крючок
опять закрыла. Она кричит: «Я же
сказала, что дома нету никого, куда ты лезешь?» И уже в ворота
не пошла,
это надо вокруг, она в свекровины
ворота, а у свекра так низенькая городьба, у городьбы-то бросила вёдра
свои на
той стороне и бежит. А мы-то уж зашли и дверь-то открыли у ней, зашли в
сенки к
ней, и я обратно вернулись, и ребятишки-то к ней лицом повернулись и
стоим,
смотрим. Она перескочила через городьбу и бежит прямо на крыльцо,
говорит:
«Бессовестная какая, нахалка! Ей говорю, что дома нет никого,
а ты лезешь». А я
говорю: «Дак мы же ничё у вас не украдём, не возьмём, нам
ничего вашего не
надо». Она смотрит на меня: «Марья, это однако
ты?» (Тут
и мне пришлось плакать, отложив
микрофон). Она говорит: «Прости меня, я не узнала
тебя». Начала ребятишек
целовать: «Это – Валя, это – Шура, это
– Толя».
Начали
заходить. Она и говорит: «Ой, у меня ведь варёного ничего
нет».
Занесла мёду, да сметаны, да молока, да хлеба нарезала:
«Садитесь скорее». Ох,
как тут соседи-то сразу увидели,
и полну
изба набежала. А Федосья-то кричит своего малъчишку - он Вали на два
года
старе, ему
лет 12, наверное, было.
«Витька, ступай скорей за тёткой Мариной, говори, что тётка
Марья пришла». Он
побежал туда. Она пришла, Марина-то, а уж цела изба народу-то, а мы
сидим за
столом. Она смотрит-смотрит по
народу: «Где гостья-то у тебя? где? Ты говорила, Марья
пришла? Где она?» Она
говорит: «Не видишь, за столом-то сидит?» Она:
«Ах, это она такая!» Ну
уж я была..
Я
ишо не сказала, что у меня вот такое брюхо
большое было, как будто я была девять
месяцев
беременна, а сама худюща. А как из
Сарафановки мы
пошли,
то плохо нам тут хлеба давали, дадут маленечко,
даже мне
одной и то не хватит поесть. Я думаю: «Если я съем, а
они-то..
я уж голодна какая дойду, а они вдруг у меня сядут и не
дойдут». Так там пучек
было много, пучки ела. Наемся,
как будто
досыта их, а маленько погодя,
опять есть
их хочу. Брюхо у меня вот такое было большущее. Она это увидела, да и
говорит:
«Да чё же это такое, такая-то!» Как раз накануне
праздник был, те баню топят и
другие. Марина говорит: «Давайте, ешьте, да пойдёмте к нам,
мы баню топим». А
Федосья говорит: «Ну, к вам, у нас тоже баня топится, сейчас
Иван приедет с
пашни», мужик-то её. «Куда же она пойдёт, никуда
она не пойдёт, сейчас в баню
пойдём». Марина говорит: «А надевать-то есть чё у
вас?» «Нет, говорю, на нас
ничё нету, рубах никаких надевать». Она побежала:
«Ну ладно,
побегу,
хоть чё-нибудь найду». Рубахи,
подшторники у ней были, да простыни коленкоровые - она пододеяльники
все
изрезала, да мне, да и ребятишкам нашила скорее, и свои платьишки
притащила
нам. В бане мы тут вымылись, у Федосьи. Тогда ночевать. Иван как раз
приехал.
«Ночевать пойдёмте к нам», а
эта не
пускает. Иван тоже: «Куда ночевать. Только пришла и к тебе
ночевать, назавтра уж».
Она: «Ну ладно, давай хоть девчонок мне». Шуру да
Валю увела, а мы с Толей
остались
тут ночевать. Ночевали, а назавтра
уж пошли туда. Она там жила со свекром, да со свекровкой. Ну вот так
тут
прожили мы три недели. Мне Паша говорил: «Ты недели две-три
поживи и сходи в
сельсовет. Явись сама, скажи, что мы пришли, можно ли тут нам жить? И
про меня
спроси: «Можно ли мне прийти?» Ну вот три недели
прошло, я пошла в сельсовет -
от нас три километра было, другая деревня.
Пришла
туда, а председатель не тот уже был, а
Беляев, он нам как-то далеко, но ишо сват приводится, знает меня хорошо
и Пашу
знает. Кемеровская область, Крапивинский район. Подошла к сельсовету.
Сельсовет
на замке. Говорят, он домой ушёл. К председателю сельсовета прямо на
дом пошла.
Знаю, где живёт. Прихожу, он дома, жена его тут в кухне. Спрашиваю:
«А где
Михаил Петрович?»
Она
говорит: «Да вон
там в комнате ходит». Иду туда:
«Здравствуйте».
«Здравствуйте. Это как ты? Приехала?» Я говорю:
«Приехала».
«Все
приехали?» Я говорю:
«Нет». «Павел где?»
«Он
там остался». «А
ты с детьми? Дети все живы?»
Все
живы». «А
как ты приехала? Документы
дали?» «Нет, так вышли и
сбежали.
Хлеба
нам вот столько давали, ничего не хватало, все обносились, нагишом и
пошли».
«Ну ладно». Я
говорю:
«Где мне можно жить?» «Да хоть в
Арсенове, хоть в
Лаченове». Это мой отец там жил. «Раз пришла, дак
чё, теперь живи с
детями».
А я говорю:
«А мужику можно
будет приехать?» «Он кем работает?»
«Он конный ветеринар». «Ну пусть там
работает». «А он уже болеет, лёгкие болят у него,
может придёт?»
Он ничего
не сказал, придёт ли, не придёт
ли. Ну так поразговаривали и я пошла. Да, я еще спросила:
«Мне паспорт можно
получить?» Он говорит: «Нет. В колхозе можно так
жить, без паспорта, чё тебе
там паспорт? В Арсёнове колхоз, и там колхоз. Так будешь жить, да и
всё».
Пришла к сестре Марине, и говорю: «Не знаю, что Паше писать?
Он велел:
«Спросишь там
в
сельсовете, напиши, что
там скажут». Ему так и написала: вот так и так сказали. Ну
ведь мне ничё, так и
ты, иди домой. А
он уж там пришёл с
работы и воды не было в избе, а от нас недалеко родник бежал, ключик.
Он
говорит, я взял ковшик, и пошёл, целый ковшик выпил воды. Хотел, сильно
пристал
и пока до избы-то шёл, его разожгло всего, лёг поспать, отдохнуть, и не
мог ни
подняться, ни чё. За ним прибежал парень: «Конёв, вставай
скорее, конь ногу
изломал». Он говорит: «Беги, запрягай коня везите
меня в домдёр». А я, -
говорит, температуру смерил, сорок температура. Думаю: ну всё, это я
напился
воды. Как
маленький всё равно. Ну увезли
его в домдёр, он там лежит в больнице, а я-то не знала, написана ему
письмо:
«Иди, Паша. Беляева-то спросила, он сказал: пусть работает. Я
стала
говорить: пусть придёт. Он ничё не
говорит. Может, ничё не будет, иди». А
он уж там
пролежал., уже и август прошёл,
пошёл в
сентябре. В октябре уж он оттуда
пришёл. Ему уж стало легче маленько. Как получать стал письма от меня,
да и
давай. Ему надо бы долечиться, а он не стал долечиваться. Пойду, -
говорит.
Пришёл в свой поселок, а там парень тоже один собирался пойти,
лет 18. Он
говорит: «Ладно, пойдём с тобой».
Пошли и тоже, как какой человек идёт или едет, то в кустик, то
куда, пока
пройдёт. А потом погнали коров в
Томск, в забой наверное.
Пять
человек пастухов, а коров-то много,
телята, коровы. Стали они заворачивать в другую сторону – мы
вышли,
взяли по прутику, подгоняем то эту корову, то другую. Пастухи нас не
отталкивают, и мы, говорит, 16 дней шли пешком, спали в поле, и дождь
шёл. Его
хуже ишшо промочило всего, он и заболел. Ну а некуда деваться, никак ,
так уж с
ними до Томска шли. И переплывали так уж со скотом всё. А из
Томского-то тут уж
ничё не спрашивали. Шли зимником. Пришёл, уже глаза запухли. Говорит,
вот так
болел, спали в поле, не знаю, что-то колет меня. Недели две прожил он
тут, я говорю:
«Ступай в сельсовет». Он говорит: «Я в
сельсовет не пойду, а пойду прямо в
район. Если приду, то меня могут арестовать, да отправить в район-то,
арестованного, приду и скажу им прямо что я заболел и всё».
Молодой был, да чё,
надо было в
колхоз, говорю – видишь, как
изделал. Как-нибудь
поговори с ними.
Пришёл туда
в район. Они спросили :
«Откуда?»
«С
Нарыму». Давай в каталажку.
Посадили в каталажку. Сутки просидел,
ему пакет
написали и послали с ним одного милиционера, а милиционер-то
знакомый ему хорошо, товарищ, знакомы. Но далёко жил от нас, километров
20 наверное.
До Крапивино было километров 30. Он мимо их деревни как paз прошёл.
Междуборная
деревня - пакет-то написали в ту комендатуру. Там у нас тоже были
уфимские
сосланы, тоже там была тайга,
в Крапивинском paйоне. От нас было 40 км,
не от Крапивино, а просто от нашей деревни 40 км. – в Уфимске
там были сосланы.
А комендатура у них была сюда ближе. Вот в эту-то Боровушку пакет и
написали,
что дайте под него подводу, семью перевезите его под
вторую
ссылку к
Уфимским. И пошли они. Ну этот дошёл до
Междуборной деревни милиционер-то и говорит: «Конёв, ты
уйдёшь один. Унесёшь
этот пакет, я найду тебя, ты его никуда не деваешь». Ну а
куда я его деваю. Не
знал Паша, чё написано там.
Он бы ежели
прочитал его, тo не пошёл бы, уехали бы все, как все уезжали. А он шёл
добросовестно.
К ним пришёл, да и говорит:
«Вот мне ишо в Боровушу надо пакет занести». Я
говорю: «А чё там написаю?» Да
кто знает, там сутки отсидел, выпустили, отнеси этот пакет, говорят. На
Боровушку. Они взяли пакет, прочитали
и
говорят: «Кто такой Конёв?»
«Я». Они возчику сказали: «Давай,
запрягай коня». А
это было в ноябре в первых числах. Уже снег. Смотрю, он на подводе
приезжает:
«Второй раз поедем в
ссылку». Говорю: «Куда? Да это чё же? Вот пакет ты
на себя принёс». Надо было мне его прочитать, а я не
прочитал, не знал,
сказали, давай лошадь, да и куда теперь деваться.
Ну вот
повезли нас опять туда. А хоть бы
родственники-то пришли, а то у нас тут ничего не было –хоть
пимы ему кто дал.
Полушубок у него был, он в полушубке, а нам-то пальтишки дали. А
обутки, раньше
были с голяшками, в этих обутках носки, портянки. Как только сядет на
сани, так
ноги мёрзнут. Я с ребятишками сижу на санях и возчик сидит, а он как
только сядет,
так ноги замерзнут. Он пешком, возчику говорит: «Уж,
пожалуйста, шагом поезжай,
чтобы мне не отстать от вас». Он шагом едет, 40 км. долго
ехали шагом, он шёл
пешком. Это было в пятницу, приехали в Осиновку и
нас
поставили туда, где вольные жили, какой-то
сапожник, к ним поставили, а там уж много в домах живут, в избушках,
переселенцы, тоже в лесу. Настроили, одна только была комната у него,
муж с
женой жили, да ребёнок был у них. Он говорит: «Я залезу на
печку». У них
русская печка была. «Я чё-то замёрз, ноги погреть
надо». Залез на печку и
ночевал. «Ой, хорошо я ночевал на печке».
А мы на
полу все. В субботу собрание у них было. Он говорит:
«Какое-то
собрание, я пойду,
там рабочие
собираются». Пошёл на собрание, а там его спросили:
«Какая твоя квалификация».
Он и говорит: «Конный
ветеринар».
«У нас
нет ветеринара конного. 80 рублей
тебе жалованья будет». А мы там-то в Нарыме нисколько, ни
копейки не получали,
а тут на лесозаготовках работают, получают все.
Разная
ссылка-то. Вот
хорошо.
Пришёл домой, и слава Богу. Восемьдесят рублей жалованье, хлеб-то был
90 коп.
килограмм - нам это хватит. Ну ты устройся, говорит, хоть маленько,
сейчас,
чтобы тебе немножечко оклематься. Только устроишься хорошо, или совсем
расчитаться, я буду хорошо
зарабатывать,
хоть на спички, да на соль. Но легли спать. Он опять на печку залез.
«Я опять
на печку полезу, чё-то мёрзну, да колет меня всего». В
воскресенье говорит: «На
печку залезу я опять». А в понедельник, не оформляться, ничё,
выходи на работу.
Он в понедельник встал утром, и распухли ноги уже и руки, и лицо
распухло. То
ли на печке-то ночевал. «Как я пойду на работу?»
Приехал врач из
Будумаково, где
Боровушка деревня, там
больница была, оттуда приехал врач. Сказали: «В контору врач
приехал». Я туда
побежала за ним, чтобы он его осмотрел. Пришёл, осмотрел его и сразу:
«В
больницу его обязательно сейчас же». Увезли, и там он
пятьдесят дней лежал и
умер.
А мне тогда
сказали: «Иди в школу работай». В
школе там
квартира,
маленькая комната
возле школы, там будешь с ребятишками, и 30 рублей
тебе
жалованье будет, будешь там работать,
печки топить дровами. Две печки «голландки»
большие. Школа большая. Чтобы
натоплено было там, чтобы тепло было, и чтобы вода была
нагрета,
кипячёна. Я подумала: чё я на тридцать-то рублей наживу. И давай, утром
встану
в 4 часа, печки затоплю, а вечером дрова натаскаю, воды натаскаю,
накипячу -
солнышко всходит, а у меня уже всё готово. Девчонки у меня тут
останутся, а
Валя тоже уж училась, да и Шура уже училась в первом классе, пошли они
у меня
обе в первый, потому что в Нарыме не учились обе. А сама пойду на
лесозаготовку. Приду оттуда, солнышко на закат, пойду за хлебом схожу,
чего-нибудь сварю, поедим, дрова наколю - чурки навезли.
Наколю
дрова, натаскаю в печи. Тогда девчонок
обоих научила мыть: давайте полы мойте. Я пристану на лесозаготовке,
парты
вымою, окошки вымою, они пол у меня моют. Пока моем, да чё, часов 11
или 12.
Электричества не было, две лампы было десятилинейных. Зажгу их и там
моем.
Вымоем, дрова у меня натаскали, ложусь тогда. В четыре часа встаю,
затопляю
печки, опять накипячу воды.
А в
Ленинское тоже были сосланы. Приехала
оттуда комендатура, оказывается, уфимские-то от Ленинской комендатуры
были. Они
оттуда приехали посещать, что ли. А один милиционер или комендант он,
видать,
какой-то приветливый, зашёл к нам в школу, да спрашивает всё откуда и
как. А я
всё рассказала. И рассказала, что мы с Нарыму сбежали: вот так было, а
тут вот
хоть на лесозаготовке работаю и тут от школы мне 30 рублей дают. Там мы
обносились. Ему так всё рассказываю, да заплакала, а он и говорит:
«А зачем
тебе в лесу в снегу-то, плохо шибко». Они ведь в охват не
обхватите, лесины-то.
А пока снег-то выкидаешь лопатой,
потом
зачнёшь пилить от корня, чтобы на четверть выше была. Лесина-то низко
ведь, а
трудно пилить, а потом как упадёт в снег. А снег-то огребаешь, сучья
обрубаешь,
да распиливаешь её, метра по три, сутунки; а которые по четыре. Да
стегами на
дорогу, да туда выталкиваешь, две женщины с того краю, с другого, а
мужики-то
только возят, складывают
на брички,
на
конях возят на берег. Он говорит: «Тебе лучше в шахте
работать, там лучше у
вас, всё-таки снег не копать». «А как мне сделать,
туда перевестись?» Он
говорит: «Давай я напишу тебе, только ты мой листочек не
подай, а то мою руку знают,
тогда мне будет, знаешь чё». Я говорю: «Вы,
пожалуйста, напишите, а я
кого-нибудь заставлю, учителя или кого. Хорошие тут учителя, я за ними
хожу,
они сделают мне». А учителя молоденькие обои, только со
школы, выучились. Он
написал. Я учителя
заставила,
он
переписал, я коменданту другому подаю: «Увезите в Ленинск, в
комендатуру».
Увезли и оттуда прислали письмо, что можешь выезжать в Ленинск, хоть
брату на
иждивение, раз мужа нету, можешь в своей деревне жить. Тогда думаю:
слава Богу.
А уже шесть лет прошло, как на ссылке. Поехали. Как раз отец ко мне
переехал.
Мы жили-то в Осиновке два года. А тут отец уже полгода жил. И отец как
раз,
вместе поехали – нам дали коня казённого.
В
комендатуру не пошли. Я работала на шахте,
уехала, где брат-то мой живёт. Он говорит, тут сыро, хлеб не родится, и
на
трудодень по килограмму достаётся. Как
прокормишься
с ними? Лучше в Арсеново ступай, там всё-таки по 2 кг
дают. Собрала
ребятишек, в Арсеново
пошла. А мне неохота в комендатуру, в шахту. Думаю, лучше в колхозе
буду
работать. В Арсеново пришла, к той же Федосье зашла, где мы были
раскулачены, у
неё жили. Зашла, а муж-то её и говорит: «Надо в колхоз
вступать, иди в
сельсовет, а то у нас сейчас колхозники хлеб веют, как раз было в
марте. Хлеб
сортируют на семена. Моя Федосья ходит, и ты с нею будешь ходить и тебе
будут
хлеба давать». Я
говорю:
«Хорошо». Я
пошла, записалась в колхоз и пошли с ней назавтра же хлеб веять,
сортировать.
Две недели я ходила, сортировала, веяла хлеб. Приехала чистка какая-то.
А тут
кто-то доказал – Пашки Конёва жена пришла с Нарыму и её
приняли в колхоз. Они
закричали: «Кулачка приехала, приняли, вычистить надо
её». А мужики которые
закричали: «Какой
Пашка
кулак, чё у него
кулацкого-то. Было бы скотины много
или деньги
получал, какой oн
кулак!?» А они закричали: «Кто за него?»
Нельзя же было говорить. Они и
замолчали. Кто за то, чтобы выкинуть, поднимайте руки. Подняли руки, а
которые
не поднимали, ни за то, ни за другое. Всё равно: «Вычистить
надо». Иван пришёл
с собрания: «Мария, тебя вычистили».
«Как
вычистили?» «Да из колхоза выкинули. Теперь куда
хочешь». «Ну пойду
в Ленинск теперь». В Ленинск пришла, первое устроилась в
пекарню, там мне мало
денег-то, кровь из носа почему-то стала, каждый день, польёт, польёт,
не могу
даже; думаю: я кровью изойду, пойду я в шахту работать. Женщины
работают в
шахте и я устроилась в шахту, вагоны откатывать. А потом вагонетки
готовят там
в шахте. У них что-то мотористка заболела, или чё. Говорит мне:
«Будешь
мотористкой?» Я говорю: «Ой, я ни одного дня не
училась». Говорю: «Как я там,
меня там убьёт». «Я буду с тoбой».
Механику сказали: «Давай её поставим, будем
учить на мотористку». Поставили, сам включает. Механик
сказал: «Ты дня три с
ней поработай».
А
молоденький мальчишка,
лет 17. Он мне помогает: «Тётя, давай вот так, и вот
так». И как болты
у моторов,
всё рассказывает. Я поняла
всё это
и стала так делать. Недели три
или четыре прошло, всех учить, повторять, как хорошо ли знают, с
моторами
обходятся. А я ничё не знаю. Пришли туда учиться, там чё они пишут,
грамотные,
а я знаю только одни буквы, даже склады не знаю. Они пишут, а я с
ихнего:
«Перепиши мне, пожалуйста, чё ты написал». Напишет,
я приду домой, да
как-нибудь Вале, а она уже во вторым классе училась: «Валя,
читай». Она читает,
а я повторяю за ней. И как
стала
сдавать, и на четвёрку сдала. Они: «Ух, как хорошо! Другие
грамотные, а на
двойку, да на тройку».
Господь
прямо мне помог. Ну и стала
мотористкой работать,
потом мало
мне
показалось на одном приводе, на двух больше заработаю. Думаю:
спуститься в
шахту, уж отработать, так заработать, а чё
так ходить-то.
А мотористки
привода, да пока там забойщики,
да
ещё не
качать уголь. Пока чё там
делают, они играют, да анекдоты эти рассказывают, а я говорю:
«А я чё эдак-то
буду сидеть? Давайте мне два привода». Они говорят:
«Один привод в забое, а
другой на штреке». «Ну, ладно, говорю,
давай»
Всё же за
два привода, а тогда за привод было только 6 руб. 20 коп., а
за два привода всё-таки двенадцать рублей, и я согласилась так. Сначала
с полгода
всё хорошо было, а потом полилось что-то с кровли, как дождь капает,
поток
шибко, капает, капает. Забойщики-то в резиновом, а то в брезентовых, а
у меня
фуфайка, да комбинезон. Зайду в забой и вся сразу вымокну, на штрек
выйду,
замёрзну. Тут то со штреку сыплется уголь, там полтонны, там полтонны,
там
тонна, скорее кидаю, кидаю, кидаю лопаткой, проверю вcё хорошо. В забой
забегу,
там опять кидаю, всё как пробегу, ничё нету, как делать нечего, я
замерзну,
мокрая, кричу: «Забойщики, дайте скорее лопату, я покидаю, я
замерзла». Один
кричит: «Мне покидай», другой:
«Мне». Я говорю: «Да мне хоть
одну». Покидаю,
устану, брошу: нате. Побегу проверять привода.
Ну вот так
было с год. Вся вымокну, прямо нитки сухой не останется,
а делаешь-то,
склонившись, спина-то
мокрая. Приду, всё в сушилку сдам, высушу, назавтра надену, всё сухо,
как кол;
надену, и в шахту, в забой и опять такое же.
У меня
чирьи пошли, на ногах,
вот здесь
на животе и на спине, штук по
тридцать. Вот
говорю вам, как пред
Богом, нe вру. И на шее, и на руках, видишь вот, следы, рубцы, всё
рубцы. Да
такие чирьи, как кулаки. Я и в больницу, и везде, и нигде мне ничё. Лук
накладёшь – один сходит, другой рядом вылазит.
Тут я
сначала не признавалась, потому что мне
надо заработать, денег-то
мало за
бюллетень будет. Проводку-то эту сделаю, у меня ремень-то
передвигается, то
вниз, то кверху; уголь кидать-то начну, он передвигается, чирьи
задевает, а
я: «Ой, ой!».
А они
кричат: «Ты чё там опять? Чё
сделалось?»
Да ничё. Не
сказываю, что у
меня чирьи.
Стыдно было сказать, что чирьи. Да чё стыдно. Ну мучилась,
мучилась, ни бюллетня, ничё. Говорят: «Ешь жиры, и перестанут
чирьи». А потом
одна женщина сказала: «Вару возьми, на маленькие тряпочки; на
плиту, как
жевочек серы, вару, и вот
так прилепляй на эти чирьи». И стала
так делать.
Сперва штук пять, думаю,
прилипает, не прилипнется вар. Только чистый вар надо, без гудрона.
Прилепила,
у меня к вечеру вытянуло всё. И не прильнуло ничё; ах, вот хорошо как!
Давай на
всё тело накладывать, и в пять дней заживила и больше не полезли чирьи,
вот как
хорошо зажили. Потом поработала, и в колхоз приехала. Ну
как вот (маму
свою спрашиваю, сидящую тут же) будут говорить, что не было этого.
Мама: «Как
не было,
я сама знаю, что ссылали у нас.
Дорогой рожали, мой муж увозил на лошади, его назначали, кулаков когда
увозили.
Везде одинаково было».
…Шли
тридцать дней и прошли 700 километров!
Но я расскажу, как мы с Валей было утонули. Ей был десятый
год.
Поехали, мужика у меня уже не было, oн
умер; а поехали, это во второй ссыпке, за Тайдоном,
там земля
хорошая, и переселенцы садят
картошку. А река такая быстрая, холодная, глубокая. С картошкой туда
переплыли
и посадили. А они уже все посадили, и я уже досаживала. Они уже мешки
все
трясут и я: «Давай, Валя, а то они уплывут». И мы
скорее бросили мешки как
попало. Мы только на берег прибежали, а они уже садятся в лодку. Мы
соскочили с
берега туда, под яр-то. Я говорю: «Вы чё, а нас-то,
подождите». А они говорят:
«Лодка и так перегружена». Ну чужие, хоть и как
кулаки, как и мы, а нам чужие -
три или четыре было мужика,
и столько
же
женщин. Лодка большая была, простая, туда картошку везли, а отсюда
сами. И вот
они отплыли. «Чё же вы делаете? Вы нас-то
посадите!» А солнышко уже поздно,
чуть не нa закате. «Посадите нас-то!» Они поплыли и
всё. Я давай кричать: «Да
чё вы, посадите нас!» И Валя кричит: «Дяденька, чё
вы нас-то оставили». А там
же в лесу звери ходят. Далеко они поплыли, и не разговаривают, смеются,
едут. Я
говорю: «Ну если
уплыли, то
за нами-то
приплывите, лодки-то тут больше нету». А они переплыли на ту
сторону и вылезли,
и лодку там оставили, и ушли. Я кричу, Валя кричит:
«Переплавьте нас, вы чё!»
Они ничё не говорят. Мы с Валей по берегу стали ходить, я плачу. Тут у
нас нет
ни спичек, ничё нету. Если бы огонь раскласть, потому что тут волки
ходят, думаю,
куда деваться, чё делать? По берегу
ходили-ходили, лодку увидали сверху,
долблянку.
«Ну чё делать, Валя, поплывём», - я говорю, умела
грести. У
нас там Томь была, раньше я на Томе жила, плавать умела, с отцом
рыбачила.
Поплывём в два весла. Ей дала
весло, ей десятый год был. Сама
взяла весло, села к корме, а её в нос или посерёдке и поплыли и до
половины ещё
не доплыли, а волны бьют лодку. Быстрая река, да холодная, как ударили
и у неё
и выпало весло из рук. Она: «Ой, мама, весло
выпало». Я говорю: «Ну ладно,
сиди, как-нибудь, не болтайся, я, может, одна подгребусь».
Когда на серёдку
выплыли, волна как ударит меня по руке, в лодку-то руку дало и весло
выпало из
рук. Я не могла поймать,
оно сразу
уплыло. Ни шеста, ни весла –
что делать?
Как раз посерёдке. Лодку у нас поворачивает, поворачивает и повдоль
повернуло,
поплыли вниз. Я кричу: «Спасите, спасите, мы утопаем,
наверно». Чё будем
делать, весла у нас выдернуло из рук. В деревне не слышно.
Кричала-кричала: «Спасите!
Спасите!» Перекат, там камни, того и гляди, мы выскочим из
лодки, перевернётся
лодка. Плыли в лодке, деревню мы уже проплыли, а я кричу:
«Ой, спасите!»
Проплыли деревню, да
чё же это, куда та
река ведёт? В какую реку попадём? На той реке очень много людей тонуло.
Теперь вот
такой большой перекат, на десять
метров. Смотрю, он от нас метров пятнадцать. Гляжу, его видать. Всё,
Валя, мы,
наверно, погибнем - гляди, какой
перекат большоё, всё, сейчас, лодка перевернётся. И то ли
я сказала:
«Господи, прости меня», или:
«Господи, спаси!» И вдруг тихо стало, лодка вот так
плыла, а тут вдруг
поворачивается, поворачивается и повернулась поперёк и поплыла к
берегу, как
будто кто её пихает к берегу. И пошла к берегу, к берегу. И вода тихо,
волна не
бьёт об лодку. Подплыла к берегу, и тут такой тальничок, и лодка прямо
в берег
воткнулась. Я говорю: «Валя, скорей соскакивай, берись за
тальник». Валя
соскочила, да схватилась за тальник. «Держись
крепче,
держись». Подошла к ней, да за
прутик. Она
начала лезти. Крутой был берег, с метр был берег, но она
как-то вылезла. Я
говорю: «Валя, подай
мне сучок потолще». Она подала, я за него взялась и вылезла.
Господь, уж видно,
помог. Вылезла только, а лодка-то уплыла. Я её куда вытащу? Лодка туда
поплыла
и повдоль реки стала.
Нас Господь
спас, я только сказала: «Господи,
спаси», и Он нас спас. Ты посмотри-ка, лодку поворотило; и к
берегу, это ли не
Господь. Это же Господь. Сама заплакала. Говорю: «Вот если бы
мы утонули, а там
Шура с Толей чё бы стали делать? Они у нас маленькие, не знаю, куда бы
они, и
мы как?»
(Рассказывает,
как получила
Евангелие, стала ходить в собрание к баптистам. Потом
мы встретились, она вернулась к вере
своих родителей, в православие, где и почила, посещая храм, причащаясь
святых
животворящих Таин. Научилась хорошо читать, знала хорошо Священное
Писание,
около половины псалмов наизусть из Псалтири. Удивительной доброты была
сестра
Мария. Дочь Валю потом приглашали вступить в партию, но она отказалась.
А
внучка Наташа вступила в комсомол, закончила мединститут, прекрасный
пульманолог получился (23-23-09). Так сколько же от погубленных
коммунистами-людоедами так и не родилось таких же умных, нежных, годных
на
доброе дело?
Пс.108:9-12
- «Дети
его да будут сиротами, и жена его —
вдовою; да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин
своих;
да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд
его; да
не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его».
Пс.102:9
- «Не
до конца гневается, и не вовек негодует».
Пс.90:15 -
«Воззовёт
ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю
его».
Не
надо так сильно
стонать при болезни,
Профессией
этой не стоит
гордиться;
К
себе сожаленье искать не
полезно –
Кто
мало сочувствует
- будешь сердиться.
Скажешь:
«Всё тело
наполнено
болью»…
Рак клешни
раскинул, свежатину чуя;
Здесь
спайки, проход с волосиночку только,
Удары
инсультом нещадно бичуют.
Сдержи
свои стоны насколько
возможно,
Других
не вгоняй
преждевременно в гроб;
Не
зрят посторонние пламень
под кожей,
Хотя
полквартиры анализов,
проб.
Быть может,
грешил ты и тайно, и явно,
То как и не
быть разложенью, миазмам?
Курился
вулканом, в дымину был пьяным,
Лобзался
без устали с чёрной проказой.
У
Бога для каждой молекулы
срок,
По
воле Его моя плешь
лучезарна;
С
трудом забираюсь один
на порог,
А
было… скакали так шустро
на пару.
Стонать
неприлично, как будто невинный,
Пусть
бортик купальни другим будет скатом.
Молюсь лишь
о том, чтобы Бог не отринул,
Душе же
очиститься, стать бы богатой.
Но
ради избранного члена у
тела
Крест
более тяжкий другим
достаётся.
Да
были бы ноги, уста мои
целы,
Без
них будет трудно,
нахлебником вовсе.
Не стоит...
И пользы от стона нисколько,
Жалельщиков
сонмы подсунет
лукавый.
Сожми свои
зубы и губы от боли -
Да будет
мой Бог и в страданье прославлен.
Примеры
оставим, сражаясь
на ложе,
На
будущем взгляд
заострим максимально;
Душой
понимаю – стонать нам
не гоже…
Нам
стон не помеха на поприще дальнем.
19.2.02.
ИгЛа

 Форум
Игнатия
Лапкина
Форум
Игнатия
Лапкина  Кто такой
Игнатий
Лапкин
Кто такой
Игнатий
Лапкин  Контакты
Контакты
 Ссылки
Ссылки
 Статьи
Статьи
 Баннеры
Баннеры Форум
Игнатия
Лапкина
Форум
Игнатия
Лапкина  Кто такой
Игнатий
Лапкин
Кто такой
Игнатий
Лапкин  Контакты
Контакты
 Ссылки
Ссылки
 Статьи
Статьи
 Баннеры
Баннеры